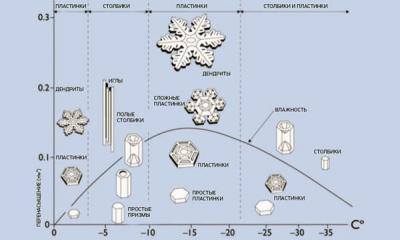Перечень персоналий, относящихся к «литературе русского зарубежья», насчитывает, если верить «Википедии», более двух тысяч имён. Традиционно они разделяются на три большие «волны».
Первая волна эмиграции (1918-1940 годы), вторая волна (1940-1950 годы) и третья - 1960-1980 годы. Но эмиграция продолжалась и в «лихие девяностые», и тогда этих писателей следовало бы отнести к «четвёртой волне», но она, эта волна, в отличие от первых трёх, изучена и описана хуже всего - отчасти потому, что времени прошло совсем немного, отчасти в связи с тем, что у «девяностников» возникли неудобства с идентичностью.
Пока был жив СССР и неразрывно связанный с ним тоталитарный режим, эмигрантов объединяло «единение в противостоянии» этому монстру. Когда же Союз развалился, эмигранты-литераторы стали скорее иммигрантами, понимающими (а порой и успешно реализующими) острую необходимость аккультурации в новой среде. Кроме того, первая волна явилась и остаётся до сих пор благодатным объектом мифологизации, благодаря чему и был создан устойчивый миф о Русской Эмиграции. Тогда как в отношении эмиграции 90-х механизмы мифологизации не срабатывают, как не срабатывают и базовые метафоры «всей России», унесённой эмиграцией в зарубежье.
Изданный не так давно издательством «Питер» коллективный труд «Мировая художественная культура. ХХ век» посвящает писателям «четвёртой волны» всего три страницы, упоминая при этом только весьма успешного и раскрученного Михаила Шишкина, автора романа «Венерин волос», награждённого в 2005 году премией «Национальный бестселлер», Андрея Макина да ещё пару-тройку имён. «Писатели-эмигранты 1990-х гг. существуют в сложной «ситуации границы» нескольких культур, - отмечают авторы. - Осознавая себя скорее иммигрантами, чем эмигрантами, они, в отличие от эмигрантов «первой волны», перешли от политики «исключения» к политике «включения» . Но сказанное можно отнести не только к эмигрантской литературе рубежа тысячелетий, но и к культуре в целом. В конце девяностых о политике «включения» писали и антропологи, и социологи, и культурологи. Это было спровоцировано не только распадом СССР, но и параллельно идущими глобализационными сдвигами, уплотнившими пространство и время; мир стал открыт, а границы - проницаемыми.
Александр Крамер - один из представителей четвёртой волны, прозаик-новеллист. Виртуозный рассказчик, впитавший и классическую традицию (Бунин, Чехов, Зощенко), и (в гораздо меньшей степени) постмодернистский «дух времени». Его отношение к «четвёртой волне» скорее формально: хороший прозаик, как и хороший поэт, перед миром и Богом - всегда стоит наособицу. Классификации, границы больше нужны критику и литературоведу, иначе не справиться с необозримым эмпирическим полем литературы.
А на этом поле всего слышнее постмодернистские голоса. Со всеми вытекающими. Кроме обновлённой поэтики, использовать элементы которой стало в литературе хорошим тоном, постмодернизм поставил под сомнение так называемые «большие нарративы» - Разум, Истина, Наука, Мораль т. д. В результате верх и низ, добро и зло перестали структурировать и жизнь, и литературу. Нравственное чувство, неотделимое от классической русской литературы, выветрилось, испарилось, исчезло. Оно стало рудиментом, старомодным пережитком того наследия, которое писатели и теоретики не без успеха старались деконструировать. Поэтика стала самодостаточной художественной доминантой, а стиль стал предметом не только у В. В. Набокова, но и у бесчисленных его эпигонов. И в этом нет ничего нового. Развитие литературы всегда шло благодаря обновлению формы. Беда в том, что за этой «игрой в классики», «игрой в бисер» - содержательно - ничего не стоит, вернее, стоит потрясающая нравственная пустота, этическая невменяемость.
Русские писатели зарубежья, особенно последней волны, испытали влияние постмодернистского дискурса в гораздо меньшей степени. Увозя в эмиграцию свои библиотеки, они вместе с ними увозили и свой культурный background, истоки и начала, от которых немыслимо было отказаться в угоду новым литературным модам. Оказавшись или «застряв» между культурными трендами, они тем самым получили дополнительный импульс самосохранения, оказавшись вне зоны доступа мейнстримов, не на шутку разгулявшихся как в европейском культурном пространстве, так и в покинутом отечестве.
Творчество Александра Крамера выделяется в поле современной русской литературы тем, что нравственная доминанта неотделима от его голоса, его стиля, его эмоциональной палитры. Тема «маленького человека», несчастного и беспрестанно унижаемого, идущая от гоголевского Акакия Акакиевича, тема русская из русских, у Александра Крамера представлена циклом «Другие». «Другой» у Крамера - это не левинасовский метафизический Другой, который всегда ближе к Богу, чем Я, и даже не сартровский Другой, без которого невозможен Я сам как субъект, это «другие» в буквальном значении - те бесчисленные обитатели приютов и домов инвалидов, которых стыдливо пытается не замечать здоровое и фитнесолюбивое большинство нормального населения. Кики, интегрируемый в социум полезным трудом по собиранию коробочек, скучным и плохо выносимым даже для дауна, каковым он и является; Лиза, которая не умеет читать-писать, говорит плохо, но страстно увлечена коллекционированием чужих очков, виртуозно воруемых из-под носа утративших бдительность граждан; профессорский сынок Юрик с отставанием в развитии, которого с тинейджерской жестокостью терроризируют садисты-одноклассники; Тина, с феноменальной и совершенно бесполезной фотографической памятью и даже со своеобразной манией величия на этой почве. Некоторым повезло больше и худо-бедно они могут устроиться работать не «на коробочки», а, например, страусом в парке аттракционов, и всё идёт неплохо, пока бедному Страусу не случается ненароком влюбиться.
С любовью у Крамера вообще получается любопытно. Любовь этих несчастных, обделённых и обездоленных ему удаётся изображать с поразительной точностью, тонкостью и нежностью (рассказы «Нинель и Ираклий», «Матрен и Матрёна»), а любовь нормальных, пусть даже и с нехорошими диагнозами персонажей, трогает читателя гораздо меньше («Шёпотом», «Неприличная история»). Такое впечатление складывается, возможно, оттого, что у любовей нормальных индивидов бывает возможным happy end (как, например, в «Неприличной истории»), а у «других» счастливых концов не полагается по определению. Да и мужество быть счастливым - свойство не частое и в мире других, и в мире тех же самых («Магазин удачи», «Некто Сидоров»).
В критической литературе высказывается порой мнение, что эмигрантская литература четвёртой волны вынуждена изображать маргинальный мир и маргинальных героев в силу собственной культурной маргинальности, мол-де, ей только и остаётся позиционировать себя «как меньшинствующую литературу», герои которой «не предстают перед собой существами стабильными, завершёнными, владеющими собой и вещами». Да, в теории мы видим массу «меньшинствующих» литературных критик (постмодернизм, психоаналитическая критика, феминистическая критика, гей-лесбийская критика, постколониальная критика и т. д.). И флаг им в руки. Но дело в том, что Крамер, показывая нам «других», видит свою задачу в том, чтобы быть медиумом, посредником между теми, кто вообще лишён голоса, лишён коммуникативных возможностей как таковых, и всеми нами. Достучаться до наших душ, сказать - это тоже люди, они умеют любить и мечтать, терпеть и страдать, падать и подниматься. Они - другие, но они и такие же, как мы.
Другие» у Крамера - это не обязательно инвалиды или люди со странностями. Они, эти другие, нуждаются не только в заботе и любви, внимании и признании, в их душах, как и у всех нас, может жить жажда прекрасной, яркой, сказочной жизни. В рассказе «Мартин» герой не может жить без утерянной красной пластмассовой ложечки - памяти о необычайно ярком впечатлении, настоящем празднике, прорвавшем серую пелену мышиных приютских будней. Рассказ «Утарасанга» тоже о «людях и странностях», о стремлении изменить себя и свою жизнь - и здесь уже внешнее переходит во внутреннее, как в ленте Мёбиуса или картинах Эшера. Но к подобным экзистенциальным безднам мысль автора подходит и… останавливается. Либо предлагает очередной счастливый конец («Побег»).
То, что есть у Крамера как у прозаика, это не только хороший русский язык, кристально чистый, без примеси какой бы то ни было ненормативной лексики. Александра Крамера делает русским писателем не язык даже, а гуманизм, да-да, тот самый старомодный гуманизм, питавший литературу в XIX веке и застывший где-то на середине века ХХ, а позже постмодернизмом и вовсе упразднённый. (Виктор Ерофеев, Виктор Пелевин - писатели современные, известные, читаемые, но у кого повернётся язык назвать их гуманистами?) Там, где раньше была вина, боль, стыд, «выходящая за грань мира тоска о человеке» (Н. Бердяев), теперь Цинизм - всеохватный и всепроникающий. Крамер старомоден с его реликтовой болью не только перед «маленьким человеком», но и, не смейтесь, перед собакой («Чашка») или кем-то невзначай обиженным («Туфель»). Но, странное дело, творчество Крамера остаётся при этом удивительно оптимистичным, светлым.
Писатели четвёртой волны, в отличие от предшественников, бежали не от революции и войны, не от террора, даже не от нищеты, критерии которой условны и преходящи, а от чудовищной бездарности, тупой жестокости и неповоротливости социальной системы, которая после «перестройки» и «гласности» стала ещё невыносимее. Никаких «философских пароходов», никаких явных гонений и притеснений, но и никакого просвета, никакой перспективы. Да, этим уехавшим в 90-е не шибко сочувствуют, да, если честно, и не шибко завидуют. Причины у всех были разные и разные обстоятельства. Наталья Червинская в рассказе «Серёжа-правдоискатель», опубликованном в «Знамени», называет лишь некоторые из них: «Мы хотели карьеры успешной, собственного дома, для детей светлого будущего, по миру попутешествовать. Ну, и - свободы слова, например. Нам всего этого не хватало…». Всем не хватает. Но ничего героического, ничего трагического в этом последнем исходе не было. Не было изгнания, был житейский выбор, трезвый расчёт. Хотя многим и он не по силам. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, ну и тому подобные банальности. Но у Натальи Червинской в эмигрантском цикле «Кто как устроился» преобладает хохма, ёрничание, правила лёгкого жанра. Чего стоит одна «Татьяна Фаберже», хоть и самозванка, а «как устроилась»!
У Крамера всё было всерьёз - и в литературе, и в жизни. Он хотел быть писателем. Ну хоть второго, ну хоть третьего, ну хоть десятого ряда, но - писателем. И, странное дело, пока он проживал в СССР, а потом в независимой Украине, его стихи и рассказы проходили со скрипом и великими усилиями, а когда стал жителем вольного ганзейского города Любека (Германия), новеллы его печатаются много, успешно и с завидной регулярностью. Снимает-таки Европа проклятое клеймо провинциальности! Но остаётся старая, как мир, проблема эмигрантской русской литературы - проблема читателя. Для кого весь огород городится? Для читателя. Без него ни славы, ни денег, ни хотя бы узнаваемого имени. А его, этого читателя, нет ни в Любеке, ни во Франкфурте, ни в Тель-Авиве, ни в Хайфе. Хотя «наших» туда понаехало будь здоров сколько. Кроме того, у первых трёх волн эмиграции была всё-таки своя культурная среда, пространство коммуникации, были большие диаспоры, выходили литературные журналы и альманахи. Теперь же всё по-другому. Мир открыт, безлимитный интернет у каждого под рукой - да печатайся, где хочешь! Хоть в Москве, хоть в Париже, хоть в Иерусалиме. Плюс к этому конец эры Гуттенберга подоспел, вся «бумажная» литература и исходит (иногда - попросту воруется) из Сети, и возвращается туда же. Уже упомянутый Шишкин живёт в Швейцарии и спокойно печатается в Москве (критикуют нещадно и, видимо, справедливо, но - печатают) , цензурный запрет давно снят со всех «забугорных» писателей. Остаются, конечно, определённые «патриотические» предубеждения и национальные сантименты. Так у С. Есина в его безразмерных «Дневниках» о ком-то из эмигрантов сказано язвительно, но точно: «Он неплохо устроился в Америке, где-то в провинции - показали огромный по нашим меркам дом. Но беда в том, что этот хорошо говорящий, почти как классик, человек дом-то предъявить может, а литературу - нет».
Конечно, это правда, да не вся. Антисемитизм, хоть мягкий, бытовой, как в 90-е годы, хоть жёсткий, административный, как в годы 70-е, был инсталлирован в советскую систему филигранно - как бы он есть, а как бы его и нет. Хотя «дело врачей» давно кануло в лету, в престижный институт носителю пятой графы путь был заказан. И в 70-е, и в 80-е, и в 90-е. Как и на престижную работу. Рассказ Крамера «Мечта Анечки Штейн» - это история растоптанной мечты и изломанной жизни. Растоптанной преднамеренно, жестоко и совершенно по-иезуитски. Мединституты, как и юридические академии - системы закрытые, чужие там не ходят и по сегодня, а тем более с неправильной национальностью, а тем более на излёте «совка», когда умирающая система цеплялась хоть за какие-то «скрепы». Хотя и не позволяла себе сочетаний «титульная нация» и «государственный язык», используя вместо этого эвфемизмы типа «новая историческая общность», «язык межнационального общения» и т. п. И что из того, что больше всего на свете Анечка Штейн мечтала стать врачом, и мечта эта была ослепительной, всепоглощающей, тотальной. Сцену, где члены приёмной комиссии «валят» несчастную абитуриентку, одним писательским воображением не осилить, слишком похоже на жизнь-как-она-есть.
В Иерусалиме в издательстве «Млечный путь» пару лет назад вышел сборник рассказов «Десятьдомиков» - транснациональный издательский проект, представляющий, среди прочего, и эмигрантскую русскую литературу. Предисловие, написанное А. Крамером, начинается трогательно: «Мы долго были рассеяны по всему свету - разным городам, странам и иногда континентам. У нас даже не было адреса, и поэтому отыскать нас было почти невозможно». Ну, вот собрались, навалились сообществом в десять голов, но… не то чтобы гора родила мышь. Налицо изнаночная сторона обретённой свободы. Похоже, в современных онлайн-сообществах редакторы вытеснены литературными PR-менеджерами, не сильно утруждающими себя хотя бы первоначальным отбором, сглаживанием пестроты слишком разнокачественных в художественном отношении текстов.
Александр Крамер выделяется на этом фоне безусловным профессионализмом, и он - трудяга. В рассказах, какой ни возьми, нет ни одного лишнего или приблизительного слова. Филигранная выделка, безупречная форма, предельная смысловая плотность текста, абсолютный языковой слух, как у музыкантов абсолютным бывает слух музыкальный. И это при том, что никаких филфаков автор (в прошлом харьковский инженер) не заканчивал. А значит - труд и ещё раз труд. «Литературу делают волы», как известно. Поэтому Крамер как автор и ценит высокий профессионализм своих героев, будь то мастерство столяра (рассказ «Паркет») или - не пугайтесь - палача (рассказы «Мастер», «Перфекционист»), Настьки-кузнечихи («Сомнение»); мастер на все руки и Сашко Подопригора (рассказ «Награда» в чернобыльском цикле).
Поразительно и композиционное разнообразие (каждый рассказ скроен и сшит по своему лекалу), что в целом не характерно для писателей, работающих в малом повествовательном жанре. Конечно, предельный лаконизм (многие из рассказов Крамера не превышают двух-трёх страниц) имеет свою изнанку. Не хватает контекста. Или, скажем по-другому, в контекст вынесено слишком многое. И тогда между читателем и писателем образуется не эмоциональная близость, а пустота. Не хватает контекста - общего опыта, общих переживаний.
Пятнадцать лет эмиграции - срок немалый. Не по историческим, конечно, а по человеческим меркам. Жизненные миры писателя и читателя перестают быть соизмеримыми. Тут уже все другое. Другое настолько, что порой раздражение закипает, чуть ли не злость - ну, не трогают меня ваши дохлые аквариумные рыбки, не трогают совсем, как ни хитро закручен сюжет (рассказ «Подарок»), ибо мы «тут» уже больше года имеем страшную привилегию наблюдать смерть живых людей - почти в режиме реального времени, онлайн, каждый день.
Но этот диссонанс возник не сегодня и не у конкретного писателя. В какой-то момент тем, сюжетов, героев начинает катастрофически не хватать, и литература населяется персонажами вневременными, гуттаперчевыми, неукоренёнными. Предметом литературы становится сама литература, а героем - сам автор.
К Александру Крамеру сказанное относится лишь отчасти. Героев его рассказов не упрекнёшь в литературности или «сделанности», но уж очень герметически замкнут его художественный мир, табу наложено на многие опасные темы, чреватые… ну, мало ли чем чреватые. Исключения - «Черно…(быль)» и «Фрагменты немецкой жизни».
«Фрагменты» выполнены легко, весело, иронично и, что нетипично, без капли подобострастия, тем более - высокомерия, этой обратной стороны комплекса неполноценности. По сути - очерки, зарисовки того, чего не может не заметить глаз человека, вглядывающийся в Иное: позитивно, рационально и доброжелательно устроенное человеческое бытие. Это когда государство для человека, а не человек для государства. Когда в автосалоне, вместе с купленным «фольксвагеном», вашей жене ещё букет роз вручить умудряются, когда в автобусе не хамят и матом не ругаются, а аккуратно так ваш неуместно раскрытый зонтик обходят, когда стариков долечивают практически до бессмертия, а инвалидам (в том числе, и из среды «понаехавших») обеспечивают и лечение, и образование, при этом с очевидным результатом, когда бесплатно машину вашу обмёрзшую обслуживают - и много чего ещё. Вот ведь как, оказывается, выглядит, социальное благополучие. Читаешь - и даже не зависть, а очередное недоумение. Ну как? Ну почему? Ну когда же у нас? … Да никогда. Потому что и немцы, и американцы работают больше, отдыхают меньше, на пенсию выходят позже. И, главное, умеют извлекать уроки из своих исторических травм. Отсюда, по сумме всего, и «государство благоденствия».
Хотя «наши» и там умудряются портить картину (прекрасен эпизод с дамой, «широко шагнувшей за бальзаковский возраст», которая, переврав по невежеству немецкие слова, обидела интеллигентную немецкую старушку, или эпизод с новоиспечённым немецким «господином» Шнайдером, эдаким безработным средней руки с амбициями, отправившемся апробировать новый социальный статус «господина» не куда-нибудь, а в постсоветский Крым, и требующий себе перед завтраком не сока, а непременно фрэша - апельсинового, охлаждённого. Ну и допросился.
«Фрагменты» получились столь удачны, думается, и благодаря эмоциональной вовлечённости автора в новый мир, и благодаря эстетическому вкусу, позволяющий найти правильный тон для каждой картинки. Хотя кому-то это и может показаться романтической восторженностью неофита. Позволю себе только одну цитату. «Никогда, - думалось, - никогда не удастся стать естественной частью этого отточенного мира». «Поэтому, когда на третий день по приезде автобус опоздал на 10(!) минут, я гордо поднял голову и подумал, что всё ещё, может быть, не так плохо. А когда увидел, как местные жители бросают окурки не в урну, а прямо на тротуар, понял, что всё ещё даже(!) может быть хорошо» («Фрагменты немецкой жизни»).
И - по контрасту - повесть не повесть, короче, впечатления очевидца, быль («Черно…(быль)». О, сколько о нём написано - и страшного, и справедливого, и всякого. Политического, аналитического, публицистического. Всё-то мы уже, кажется, знаем о самой громкой техногенной катастрофе прошлого столетия, случившейся под самый занавес советского периода нашей истории. Чернобыль как бы жирную точку на нём поставил. Больше всего, как помнится, людей поразило махровое невежество, идеологический маразм тогдашних киевских властей, выгнавших людей на первомайскую демонстрацию в дни, когда радиация ещё зашкаливала. Но всё проходит, давно разогнало ветром радиоактивные облака, над реактором соорудили саркофаг, отсидел от звонка до звонка и уже вышел назначенный «стрелочником» директор ЧАЭС, получили положенные льготы «чернобыльцы» и ликвидаторы. Но здесь не все было гладко. Крамер, мобилизованный на ЧАЭС весной 1988, рассказывает, среди прочего, и о мытарствах чернобыльцев. Оказывается, мало было участвовать и «набрать дозу», надо было потом «связь» доказать (заключение комиссии о связи заболевания с пребыванием в «зоне»). Нет «связи» - не будет ни инвалидности, ни пенсии чернобыльской, а будет как у простых необлучённых смертных. А докажи-ка ты «связь» при нашей пещерной медицине и при нашей бессмертной бюрократии. Но и этого мало, надо потом всю оставшуюся жизнь доказывать, что ты не жулик и не симулянт.
Чернобыль не только поставил метафизическую точку (вернее, крест) на «социализме с человеческим лицом», он, как через увеличительное стекло, показал его сущностную несостоятельность. И те детали постчернобыльской трагедии, которые мы находим у Крамера, совершенно необходимы для полноты картины. Автор - свидетель, очевидец и участник, рассказывает только то, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Без патетики и пафоса. Кратко, точно и с неподражаемым юмором. Начиная с медкомиссии («Челюсти есть?.. Нет?.. Годен!..» «Падучей страдаете?.. Нет?.. Годен!..») и заканчивая «дозами», которые определялись не бэрами, а инструкциями. Все просто-как-правда. Предельно допустимая доза определялась заранее. «А вот как её, заранее определённую, увязать с заранее определённым сроком? Ну, поскольку вы были советскими людьми, то, я думаю, вы уже догадались. Конечно, нужно разделить предельную дозу на желаемый срок и вывести предельную суточную дозу; и ни при каких условиях выше этого предела не писать . И не писали!».
В социальной теории это называется «биографическим решением системных противоречий» (Бауман), когда корень проблемы - в несовершенном обществе и государстве, «в системе», а расхлёбывать последствия приходится живому человеку.
Сами ликвидаторы понятия не имели, какую реально «дозу» они набрали. Дозиметры, которые брали в зону, были слепопоказывающими, а секретчики, которые эту информацию должны были потом рассекречивать, в действительности ничего не секретили и не рассекречивали, а тупо писали то, что было необходимо «по инструкции». А законопослушные военнообязанные ещё и рвались в зону, ибо так можно было по-быстрому набрать дозу и свалить домой пораньше (месяца через три), тогда как тому, кто в зону не ездил, «писали фон», а на фоне можно было протрубить и все полгода (именно на полгода выписывалось мобпредписание). И таких, столь же прелестных, сколь и кафкианских, деталей в произведении А. Крамера - великое множество. Но чернобыльская тема давно выпала из обоймы приоритетно-актуальных. Всё забывается слишком быстро, и уроков, похоже, никто ни из чего не извлекает. Иначе как объяснить, что на Украине этот текст полностью и без купюр никогда опубликован не был? Исключение - харьковский «Березиль», где «Чернобыль» был опубликован «к дате» и в переводе.
В рассказах Крамера умудряются оживать и темы общеизвестные, что называется, вечные, как, например, моральный выбор, перипетии которого всегда были в центре внимания мировой литературы со времён Софокла. Есть такая болезнь - синдром Хатчинсона-Грилфорда, то есть очень быстрое старение организма. Зэку Шаруну предложили «скостить» срок, если он поучаствует в медицинском эксперименте в качестве подопытного кролика. А что это для Шаруна значит? Ну, постареет он сразу на двадцать лет, но ведь и срок, почти максимальный в его случае, благодаря этому скостится да ещё и уменьшится «на целый пятерик». Но не тут-то было, муки морального выбора со времён высокой классики изменились мало:
«Вы же знаете, мне мою жизнь взамен срока тюремного предлагают продать. Ну не могу я никак, никак, понимаете, выбрать, чему цена выше - жизни скотской возле параши, но чтобы всё в свой срок, всё как надо, хоть с какими-то радостями-удовольствиями, ведь не всё же чернуха; или свобода, но чтобы мох на мне за пять минут вырос, чтобы остался я с житухой сворованной, конченной, никому на фиг не нужной, навроде окурка жеваного. Просвистит недоля мимо в долбанном поле… а потом чего? А может, я в этом поле загнусь, потому что мне не двадцать пять, а всего двадцать лет, кем незнамо, отпущено! Кто такое сказать - знать может? Никто! Что же они мне взамен предлагают? Пятёрку говенную, которую надо ещё из колоды краплёной вытянуть»… («Выбор»).
Мастерски Крамером показан ярчайший пример морального выбора, делать который всегда трудно, иногда - невыносимо. Ибо все, что следует за выбором, уже не спишешь ни на Бога, ни на судьбу, ни на обстоятельства. Бог может всё, но выбор делает человек. Именно здесь пролегает мера свободы и степень ответственности.
«Только, если не соглашусь, весь тридцатник свой обязательно помнить буду, что был шансик, малюсенький шансик, но ведь был же!.. А ещё жуть как понятие давит, что могу в своей жизни всё изменить. Сам могу изменить. Хоть чуток не в тюряге вонючей, а нормально, на воле пожить. Откажусь, а назавтра кирпич на меня с крыши сверзится, руки-ноги от болячки какой откажут, в башке помутится… Печёт душу, доктор, печёт… Худо мне. Нечем пожар загасить!» («Выбор»).
Герою Крамера бремя выбора оказалось не под силу, «во время несения службы заключённый Шарун найден в камере со вскрытыми венами мёртвым».
Было бы несправедливым представлять писателя Крамера этаким аватаром классического реализма и классического гуманизма. Есть у него и элементы «сюра» или, как его иногда называют, магического реализма. И не только элементы, а целый цикл из трёх рассказов («Некто»). Некто, точнее, некто Сидоров, Петров, Иванов (так называются рассказы цикла), то есть, некто типичный, любой и каждый из нас. Но, как всё символическое, сюрреализм не переводится на естественный человеческий язык «без остатка». Не буду и пытаться. Отмечу только, что при всём символизме, предусмотренном жанром, при всей иронии (героиня то ли борщ варит, то ли Шопенгауэра читает, а герой то ли девиц «клеит», то ли смысл жизни ищет), цикл пронизан каким-то особым светом, в нём много воздуха, много доброты - к этому некоему, ну типа, - человеку. И его «брату меньшему», рыжему котёнку по кличке Гаер. Поэтому «мораль» можно вычитать при желании и в этом цикле.
Историки литературы добросовестно пытаются включить писателей - эмигрантов четвёртой волны - в целостный и глобальный литературный процесс, очертить их место в этом процессе. «Поле литературы становится полем борьбы за выживание: в данном случае включения в литературу страны проживания писателя-эмигранта». Но это вряд ли. Для того чтобы быть включённым в литературу страны проживания, надо уже стать классиком масштаба Набокова или Бродского. А чтобы стать Набоковым или Бродским, помимо Дара, надо уже попасть «в классики», расчерченные в поле литературы. Круг замыкается.
Делаются и ещё менее очевидные утверждения: «…Литературе эмиграции 1990-х годов почти не удаётся создать властный дискурс ни в рамках поля метропольной литературы, ни в рамках эмигрантской литературы прошлого, ни тем более в мировой литературе. Метропольная литература стремится теперь к вытеснению авторов, уже уступивших (курсив мой - Т. В.) властные позиции предыдущим поколениям эмигрантов» .
Поясним термины. «Поле литературы», «властный дискурс» - термины Пьера Бурдье (1930-2002), французского социолога, предложившего новую (в сущности - структуралистскую, но с сильной марксистской компонентой) методологию описания и объяснения динамики литературного процесса. Объектом науки о художественных произведениях является, согласно Бурдье, соотношение между двумя структурами: структурой объективных отношений в поле производства литературы и структурой отношений между манифестациями в пространстве текстов. Гипотеза о гомологии этих позиций составляет специфику подхода Бурдье. Такой подход позволяет описывать и анализировать литературу, не останавливаясь на отдельном авторе или произведении, а рассматривать поле литературы как пространство взаимодействия и взаимовлияния позиций.
Методология оказалась на редкость успешной благодаря тому, что не работает с качественными параметрами и критериями, но позволяет объяснить, почему «новаторы» и «архаисты», «ветхие» и «новые», «классика» и «авангард» - обречены на перманентную борьбу. Борьба идёт за право попадания в поле или за право в нём оставаться. Литература, по Бурдье, является «полем конкурентной борьбы, направленной на консервацию или трансформацию этого поля сил» .
Это отступление необходимо для того, чтобы объяснить, что авторы «четвёртой волны» эмиграции никак не могут «уступить властные позиции предыдущим поколениям эмигрантов». Поле литературы - не мартиролог, где прописаны только «предыдущие поколения эмигрантов». Литература, как и жизнь в целом, меняется быстрее, чем самая продвинутая методология.
Живая литература, в той мере, в какой она сегодня существует, живёт и не в метрополиях, и не в диаспорах. Само деление на метрополию и диаспору, благодаря стремительному распространению «галактики Интернет», становится условностью. Распространение Интернета и всех сервисов, которые он обеспечивает - социальных сетей, форумов, блогов и т. д. - упрощает, а порой и решает проблему социальной, культурной и территориальной изоляции как писателя, так и его потенциального читателя. Литературное пространство Сети - уже́ мировое пространство. Разумеется, это пространство не есть «Мировая Республика Литературы» (П. Казанова) с её правилами, её борьбой и незримыми иерархиями. Литературное пространство формирует вера в литературу, «где каждый творит по-своему, но все творят, чтобы участвовать в соревновании, не сбиться с курса, выиграть в конкурсе, и с неравным оружием достичь одной цели - войти на законных основаниях в литературу».
Вы получите отдельным файлом в пяти вариантах: doc, fb2, pdf, rtf, txt.ОСЕНЬ
Все. Оставался какой-то десяток часов. Он уезжал. Навсегда. И ему напоследок хотелось исчерпать этот город до дна.
- А кругом была осень. И желтые листья. И солнце светило вовсю. И ветер был теплый и ласковый. Этот приторно ласковый ветер рвал охапками желтые листья с деревьев и бросал их идущим под ноги.
- И он тоже - высокий, изящный и соломенно-рыжеволосый - казался осенним листом, оторванным и гонимым все тем же приторным ветром. И еще он казался слепым, потому что на всех натыкался и чуть-чуть не попал под машину, и блуждал без цели и толку, ощущая с ужасом и восторгом, как время уходит, уходит, уходит, уходит, уходит...
- Все. Он больше уже не мог ни носиться, ни ощущать. Город все также был полон, а он исчерпался до дна. Ветер еще какое-то время кружил его душу, напоследок давая возможность насладиться свободой, и теперь вот швырнул его так же, как прочие листья, идущим под ноги. Он сидел на скамейке в крошечном сквере, зажатом между домами, и был тих и бессилен, и как будто уснул, улыбаясь теплу и покою, опустошенный.
- О Господи! Время! Он схватил свою сумку и понесся как вихрь, как тайфун, как торнадо, теперь уже целеустремленно расталкивая прохожих (мне кажется, что от этого им было не легче), и чуть было снова не попал под машину. Но вот и автобус. Привычная давка привела его в чувство. Он быстро восстанавливал силы перед дальней дорогой. Скорлупа разрушалась. Птенец выбирался на волю. Чтобы жить!
- Черт! Проклятое время! Как дикий зверь за добычей, пересек он вокзальную площадь, скатился в подземный туннель, вырвался вновь на поверхность, на перрон, и понесся к вагону, распугивая пассажиров, разметая опавшие листья...
- Откуда только взялась эта лужа! Состав уже лязгнул на сцепках, а еще два вагона... И Она закрывает проход между лужей и краем перрона. И о, вихрь, о, тайфун, о, торнадо!..
- Она была так же изящна и соломенно-рыжеволоса. И казалось, что они - два листа с одной кроны. Это ветер прибил их друг к другу и теперь наслаждался творением крыл своих (вполне в его духе).
- И он обнял ее, приподнял, и затих, и несмело коснулся губами, и, гонимый осенним временем, унесся, оставив ее на перроне среди облетевших листьев.
СТАРИК
С утра шел дождь. Днем вдруг огромными мокрыми хлопьями повалил снег, и вскоре всюду лежала грязная ледяная каша, провоцируя богохульство водителей и ипохондрию пешеходов. К вечеру изможденный, искалеченный первой метелью город опустел, стал похож на воющую от голода черную и пустую утробу.
Жидкий, желтоватый свет одинокого фонаря превратил стеклянный навес остановки в огромную банку, наполненную формалином. Три тощих, скукоженных фигуры, заформалиненных в банке, медленно плавали от стенки к стенке, ожидая прихода трамвая как решения собственной участи.
Худой низкорослый бородатый старик в замурзанном ватнике и таких же штанах, заправленных в заляпанные грязью кирзачи, понуро и неподвижно стоял за пределами банки и безучастно смотрел на редко проносящиеся болиды, швыряющие по сторонам ошметки ледяной грязи. Тощий, выцветший от времени рюкзачишко старик перекинул со спины на живот и старательно прикрывал его занемевшими от холода, корявыми большими руками.
Трамвай все не шел и не шел. Снег все падал и падал. А ветер все выл, и выл, выл, и выматывал душу.
Наконец подкатил он - звонкий, желанный, несущий свет и надежду. Три тощих скукоженных фигуры торопливо попрыгали внутрь. Старик вошел за ними, последний. Трамвай дернулся и покатил, унося своих пассажиров навстречу теплу, уюту и исполнению желаний.
Пассажиров в вагоне было немного: дородная дама с лицом деревенской матроны, прапорщик, похожий на прапорщика, два престарелых джентльмена, слегка подшофе, типичный интеллигент в очках и шляпе и влюбленная пара, чьих лиц видно не было, потому что они целовались.
Старик сел подальше от всех, возле окна, в той части вагона, где лампа в плафоне сгорела и стояли сизые сумерки. Он устроился, положил на колени рюкзак и долго сидел, весь свернувшись в комок и грея руки у рта. Наконец его руки согрелись. Тогда он развязал рюкзак, достал деревянную дудочку и заиграл...
Подлость людская привела его в город за правдой; подлость людская гнала его прочь без правды. Потому все равно ему было, что происходит вокруг, он хотел одного - успокоить иззябшую душу, увести ее прочь из замкнутого пространства к теплу и покою.
Матрона яростно рылась в объемистой черной сумке, вояка кемарил, раскачиваясь во сне как китайский болванчик, престарелые джентльмены пихали друг друга локтями и ухахатывались, интеллигент безучастно смотрел в окно, а влюбленные целовались без устали и печали.
Старик все играл и играл, отстранившись от мира тусклой обыденности, ошметков грязи и невыносимого холода. Он был далеко, далеко, среди чистых лесов и полей, где ветер шумит, а не воет, где птицы поют, а не каркают, и где воду пьют только из родников.
Грохоча и сияя, бежал по маршруту трамвай, неся свет и надежду всем, кто ждет их в пути.
А за окнами злобно выла черная пустая утроба, обреченная на смерть.
Анонс журнала «Человек на Земле» №10:
Десять — цифра симпатичная: круглая, весёлая, но и вполне себе солидная. И пока верстается десятая книжка журнала, мы анонсируем для наших читателей отрывки из будущего — юбилейного – номера.
Мечта Анечки Штейн
Давно уже не было черносотенцев, лагерей и газовых камер. Даже безродные космополиты и убийцы в белых халатах стали как-то подзабываться. То, что царский закон о черте оседлости сменила подзаконная процентная норма, конечно же, раздражало, угнетало, нервировало, но никакого сугубого страха на живущих под нормой не наводило и в дрожь не вгоняло. Так что жизнь была, в общем-то, более или менее обыкновенной.
1
Коллективные опыт и разум, несмотря ни на что, говорили им, что обстоятельства могут изменяться стремительно и необратимо, и тогда уцелеть удаётся тем только, кто не на виду, тем только, кто не привлекает к себе внимание двуногого стада; поэтому – при любых обстоятельствах – нужно стараться быть неразличимым в толпе, а ещё лучше – попытаться стать совершенно невидимым.
Три поколения женщин, потерявших в лихолетьях минувшего времени драгоценных своих мужчин и многих, и многих близких, теперь, изо всех своих слабых сил, защищали единственное своё продолжение: старались растить дочку, внучку и правнучку до того неприметной, что иногда (до поры) сами сомневались в реальности Анечкиного существования.
Девочка даже знания свои в школе, по их настоянию, выявляла не в полную силу. Впрочем, данные у Анечки от природы были прекрасные, усердие и трудолюбие замечательные, так что троек в табеле никогда не водилось. Нет, гениальными способностями она не обладала, но живой и дотошный ум в сочетании с прилежанием и упорством давали очень и очень хорошие результаты.
Тем не менее, свойства серой, замкнутой мышки-тихони отлично работали; и если б её одноклассников спросили однажды, как Анечка учится и что собой представляет, то большинство из них вряд ли смогли бы что-то внятно ответить.
Один только раз серый панцирь, после долгих и трудных домашних сомнений, на миг решились разрушить, но в страшной панике снова надвинули на улитку непроницаемый домик, и, ко всеобщей семейной радости, всё тогда всеми благополучно и быстро забылось.
А случилось так, что под Новый год их восьмой класс пригласили… в театр! На «Золушку». Анечка никогда ещё на такое грандиозное представление не попадала. Ну, утренник в детском садике, ну, провинциальный театрик где-нибудь в доме отдыха, ну… Нет, огромный роскошный театр совершенно на всё это не походил. Ни на йоту!
Это был праздник такого масштаба, что пятнадцатилетней девочке, прожившей всю свою жизнь в скорлупе, под домашним арестом, под неусыпным надзором… Нет, никакими словами не передать волнение праздничное, немыслимое, необыкновенное… Всё, даже библиотека, на задний план отступило, всё растворилось в волнующем предвкушении чуда, предвкушении счастья. С ней творилось такое, такое – что и маме, и бабушке передалось (прабабушки уже не было). И тогда вдруг, в нарушение всех и всяческих правил, решили, что пошьют девочке ПЛАТЬЕ. В ателье, настоящее, праздничное, о каком Анечка после ужасных коричневых (бес)форменных своих балахонов даже и мечтать не могла.
И пошили! Голубое, кримпленовое, с воротничком-стойкой, удлинённой немного талией, нескромной самую капельку юбкой, открывающей стройные ножки; а к нему купили ещё красные – чешского стекла – бусы и вишнёвые туфли-лодочки на каблучке. А волосы, обыкновенно закрученные в уродливый пук, распустили, и теперь они широкой ночною рекой струились на плечи. <…>
Родился в Харькове. Окончил политехнический институт, инженер. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Публиковался в детских и взрослых литературных изданиях в России, Украине, Канаде, Болгарии и Германии. Живёт в Любеке.
Вдова
Нам с женой с давних пор нравится путешествовать без какой-либо цели. Катим мы так с ней однажды куда глаза глядят и вдруг видим - диво дивное: бежит в чистом поле барышня каменная и косынкой изо всех сил машет кому-то. Кругом овраги да буераки, жилья никакого, народа живого вроде тоже не видно. Откуда бы в таком месте скульптура могла появиться? Бежала, что ль, куда красавица-девица, да окаменела? Чудо - прямо как в сказке.
Дорога широкой дугой огибала огромный овраг, и каменная бегунья так долго оставалась перед глазами, что нас в конце концов деятельное любопытство разобрало и захотелось поближе на ваятельный артефакт поглядеть. В ироническом настроении выбрались мы из машины, по довольно пересечённой местности приблизились к странной скульптуре вплотную — и застыли: таким скорбным, таким нестерпимо горестным лицо молодой женщины вблизи оказалось, что веселье беспричинное c наc моментально слетело. И так смутно вдруг на душе сделалось, будто с нами несчастье неведомое произошло.
Постамент у скульптуры был совсем низкий, густой травой скрытый, потому и казалось, что бежит женщина прямо по полю: из последних сил своих устремилась за кем-то в безоглядной, безнадёжной погоне. Из груди её рвался безмолвный, отчаянный крик, резкий ветер порывами хлестал по лицу, немилосердно трепал густые длинные волосы, сарафан раздувал, ноги спутывал — тормозил, не давал идти... А подножье скульптуры — всё было цветами усыпано: и сухие цветы лежали вокруг, и совсем ещё свежие.
Мы постояли немного и медленно побрели обратно, забрались в кабину и молча сидели — никакие слова не хотелось произносить.
Знаешь, - сказала жена, когда мы намолчались вдосталь, — а давай узнаем хоть что-нибудь. Наверняка местные рассказать что-то могут.
Хорошо, - сказал я. - Как первые дома покажутся, так и свернём. Может, и вправду узнаем что.
Так мы в дом к старому учителю и попали, и вот что он рассказал.
Я, значит, начала видеть никак не мог, потому что тогда, как говорят, ещё и в проекте не значился. Но отец мой, Степан Порфирьевич, земля ему пухом, про это несколько раз рассказывал, так что я, таким образом, и прелюдию знаю.
Ну да, с одной стороны страшные тогда времена, «окаянные» были, а с другой — такая неугомонность созидательская нежданно в людях проснулась!.. Идеи всяческие — просто фонтанами били. Вот одну такую идею кто-то в нашей местности и исполнил.
Активисты здешние даже группу образовали. Изо всех сил пытались дознаться, кто Вдову изваял. Даже какого-то крупного специалиста из Москвы приглашали. Тот приехал, руками развёл, языком поцокал да назад и поворотил. Так ничего, значит, выяснить за всё время и не получилось.
Вода в краях наших — целебная, повсюду источники минеральные бьют; вот и решила власть к десятилетию Октября санаторий для красноармейцев больных построить.
Первый камень под оркестр военный заложили, транспаранты с плакатами всюду понавывешивали и скульптуры, ну, про которые вы расспрашиваете, одним духом поставили. Их ведь, скульптур этих, две поначалу было. Ближе к шоссе, по которому вы к нам приехали, значит, красноармеец стоял — в обмотках, шинелишке нараспашку, папахе со звёздочкой и винтовкой через плечо. Солдатик с весёлой улыбочкой уж почти что на тракт выходил и небрежно, повернувшись вполоборота, на прощанье рукой помахивал; а девушка издалека, аж с поля, за ним бежала и всё звала, звала...
Санаторий потом и вправду построили, но в сорока километрах отсюда и для начальства военного. Там, значит, пласт водяной помощней, лес с рекою поближе, да и вся местность для строительства приспособленней оказалась. В общем, перерыли здесь все поначалу да бросили, а скульптуры не стали отчего-то переносить, тут и оставили. Так они до войны, на удивление всем, у нас и простояли.
Потом война началась. Это я, значит, хорошо уже помню. По нашим местам прифронтовая полоса проходила, и в райцентре, в бывшей земской больнице, огромный госпиталь сделали. Однажды летом, в сорок третьем году, туда санитарной колонной раненых с фронта везли - машин восемь, десять.
Откуда он только в тот день налетел, этот «фоккер». Ведь тихо всё было! Он, ублюдок, и бомбы-то две всего сбросил, но первой попал в самый центр, а вторая упала на обочину трассы, в хвосте колонны, как раз там, где каменный красноармеец стоял. Тогда мало кто уцелел. И красноармейца взрывной волной тоже начисто срезало.
Так вторая скульптура и осталась одна. Бобылкой, значит, без солдатика своего осталась. Вот её Вдовой с тех пор и зовут.
Потом группками вдовьими затеяли на Девятое мая возле Вдовы собираться. Придут, сядут, разольют по рюмочкам горькую и кручинные песни поют. И так это всё душевно у них выходило... что и не вдовый народ понемногу стал к ним подтягиваться. Так одним майским днем и ветераны к ним тоже присоединились. А кажется, уже в конце шестидесятых традицией это, значит, в местах наших сделалось.
В округе монументов всяких да обелисков, под копирку сработанных, и счесть не возможно, даже вечный огонь в райцентре имеется, а народ сюда едет — до земли солдатской вдове поклониться, рядом с ней своих близких вспомнить. И афганской войной искалеченные, и чеченскими...
Вас вот тоже, видимо, зацепило, тоже душу Вдовы почувствовали.
Да, а лет так пятнадцать назад вдруг стали молодожены сюда приезжать после загса — чтоб, значит, первый совместный глоток шампанского здесь именно выпить, на глазах у Вдовы — за счастливую, долгую и неразлучную жизнь. Ну да, именно так. В загсе расписываются, как и положено, фотографии всякие делают, а шампанское уже возле Вдовы открывают.
Получается, мастер неведомый — произведение редкое сотворил. На долгие времена. Жаль, узнать ничего про него не вышло. Нет его уже, видно, в живых.
На обратном пути мы снова возле скульптуры остановились. Нарвали цветов полевых и к ногам Вдовы положили. Жена прижалась ко мне, и мы, крепко обнявшись, постояли недолго. А потом молча по глотку вина выпили. За тех, кто никогда уже не возвратится. И за тех, кто не возвратившихся помнит.
ПРОПАЖА
И всегда одни и те же унылые стены. И всегда одни и те же опостылевшие, невзрачные, постные лица. И вечно одно и то же, одно и то же! Совершенно ничего, никогда в тоскливой, безнадежной этой и безотрадной жизни не происходило. И так годы, и годы, и годы...
И вдруг в этом заурядном, безотрадном, мышином существовании возникает — парк аттракционов! Карусели, качели, паровозик и горки; океан сумасшедшего, необузданного веселья, заразительного, неудержимого хохота; нескончаемый парад клоунов, карнавальные шествия, уморительные кортежи; и петарды, и гроздья разноцветных шаров, и толпы беспечального люда... и музыка, музыка, живая развесёлая музыка, до самых бездонных, голубых с зелёным небес...
А перед самым уходом — в громадном кафе под разноцветными зонтиками — их напоили превкусными, ароматными соками и накормили мороженым в огромных вафельных фунтиках, которые, хохоча и заигрывая, разносили по столикам расфуфыренные огненно-рыжие клоунессы и игривые ведьмочки; и было так весело, так необычайно весело...
И на память об этом ошеломительном, волшебном событии остались у Мартина оранжевый резиновый шарик с какого-то аттракциона и чайная ложечка, которой он ел мороженое.
Ложечка была из блестящей красной пластмассы и такая необыкновенно красивая, что он моментально прикипел к ней всем своим существом и больше ни на минуту расстаться ни с ней, ни с шариком оказался не в состоянии. Потому что и шарик, и ложечка были дивным, неизгладимым воспоминанием, отголоском чудесного, давным-давно растворившегося во времени, но ни капельки не позабытого, не потускневшего в памяти праздника.
С этих пор шарик всегда лежал у него под подушкой, и Мартин перед сном обязательно с ним прощался. А ложечку он повсюду носил с собою и ел все только ею. То, что нельзя было есть драгоценной ложечкой — не ел вовсе. Только на ночь выпускал её из своих рук, клал под подушку рядом с оранжевым шариком, последний раз до неё дотрагивался и только тогда засыпал.
Дом, в котором он прожил почти всю свою жизнь, уже и до того, как он в нём поселился, был очень старым, но за последнее время обветшал совершенно, и однажды им объявили, что в нём надо сделать основательный, капитальный ремонт, и поэтому все они — все до единого — переселяются. За годы, что он здесь провёл, у него, как и положено, накопилось множество разнообразных, ненужных и нужных, вещей. Всё подряд забрать на новое место почему-то не разрешили, и он, не в силах решить, с чем можно расстаться, весь свой драгоценный скарб бесконечно перебирал, сортировал, перекладывал... Времени отвели совсем мало, суета в доме стояла из-за этого страшная, нервотрёпка ужасная... и когда они все наконец переехали, оказалось, что оранжевый шарик на месте, а ложечка, его драгоценная красная ложечка, — потерялась. Нигде, нигде не было!!!
Он бродил, бродил и бродил по всем новым комнатам как потерянный. Слёзы то и дело наворачивались сами собой на глаза. Дыхание спирало. Одна щека от безостановочной нервотрёпки стала подёргиваться. Ему казалось, что здесь всегда холодно, всё внутри и снаружи от этого холода мелко дрожало. Есть он больше не мог, потому что есть стало нечем. Никакие другие ложки и вилки он не признавал, видеть не мог, дотронуться был не в состоянии... Через несколько дней голод, видимо, стал таким невыносимым, что он попытался есть суп из кастрюли горстями — оказалось так мерзко, что он тут же бросил и больше ни к какой еде вообще не притрагивался.
Его всякими способами старались уговорить, предлагали хотя бы попытаться есть что-то руками — например, курицу или мясо. Он устроил скандал, закатил невиданную истерику и даже попробовать хоть кусочек чего-нибудь — наотрез отказался.
На шестой только день у медицинской сестры наконец появилась здравая, но совсем не простая идея — ехать в парк аттракционов. Так давным-давно та экскурсия состоялась! Всё с тех пор как угодно могло измениться. Но попытка — не пытка. Всё лучше, чем ждать и надеяться неизвестно на что. Кто назвался, тот, как говорят, и попался: по этому принципу медсестру же в поездку и отрядили.
Она возвратилась из командировки лишь поздним вечером, уже после ужина, и — о чудо — привезла две точно таких же красных пластмассовых ложечки! Одну из них сразу (на всякий пожарный случай) спрятали в надежное место, а другую — выманив Мартина из его комнаты — положили ему под подушку, рядом с резиновым шариком, где ночью всегда и лежала — будто сама отыскалась, будто как в сказке...
И он наконец успокоился и мог снова есть и дышать. И, хотя бы на время, стал счастлив.
ОСЕНЬ
Всё! Оставался какой-то десяток часов. Он уезжал. Навсегда. И ему напоследок хотелось исчерпать этот город до дна.
А кругом была осень. И жёлтые листья. И солнце светило вовсю. И ветер был тёплый и ласковый. Этот приторно ласковый ветер рвал охапками жёлтые листья с деревьев и бросал их идущим под ноги.
И он тоже — высокий, изящный и соломенно-рыжеволосый — казался осенним листом, оторванным и гонимым всё тем же приторным ветром. И ещё он казался слепым, потому что на всех натыкался и чуть-чуть не попал под машину, и блуждал без цели и толку, ощущая с ужасом и восторгом, как время уходит, уходит, уходит...
Всё... Он больше уже не мог ни носиться, ни ощущать. Город был по-прежнему полон, а он исчерпался до дна. Ветер ещё какое-то время кружил его душу, напоследок давая возможность насладиться свободой, а потом, без всякой пощады, швырнул его так же, как прочие листья, идущим под ноги. Он сидел на скамейке в крошечном сквере, зажатом между домами, и был тих, и витал в облаках, и как будто уснул, улыбаясь теплу и покою, опустошённый.
О господи! Время! Он схватил свою сумку и понесся как вихрь, как тайфун, как торнадо, теперь уже целеустремлённо расталкивая прохожих (мне кажется, что от этого им было не легче) и чуть было снова не попал под машину. Но вот и автобус. Привычная давка привела его в чувство. Он быстро восстанавливал силы перед дальней дорогой. Скорлупа разрушалась. Птенец выбирался на волю. Чтобы жить!
Чёрт! Проклятое время! Как дикий зверь за добычей, пересёк он вокзальную площадь, скатился в подземный туннель, вырвался вновь на поверхность, на перрон, и понёсся к вагону, распугивая пассажиров, разметая опавшие листья...
Откуда только взялась эта лужа! Состав уже лязгнул на сцепках, а ещё два вагона... И Она закрывает проход между лужей и краем перрона. И о вихрь, о тайфун, о торнадо!..
Она была так же изящна и соломенно-рыжеволоса. И казалось, что они два листа с одной кроны. Это ветер прибил их друг к другу и теперь наслаждался творением крыл своих (вполне в его духе). И он обнял её, приподнял, и затих, и несмело коснулся губами, и, гонимый осенним временем, унёсся, оставив её на перроне среди облетевших листьев.
На закате
Некоторое время я так часто ездил в командировки, что гостиницы стали казаться мне домом, а дом — одной из многих и многих случайных гостиниц; но мне, если честно, очень нравилась эта кочевая, суматошная, неопределённая жизнь, было комфортно среди множества новых лиц, впечатлений, неизбежных внезапных, необязательных и мимолетных отношений и связей...
Вот так одна из бесчисленных командировок и привела меня как-то в маленький город над большой и тихой рекой. Когда-то великий и славный, город этот теперь был глубокой, глубочайшей провинцией, медвежьим углом, откуда хотелось, приехав, сбежать как можно скорее. Я так и намеревался сделать — управиться одним днём со всеми делами и удрать восвояси, но всё ещё в самом начале не склеилось, пошло наперекосяк, и к середине рабочего дня я уже точно знал, что придётся-таки, к сожалению, остаться здесь и на завтра. А потому я прыгать, дёргаться и душу гнать из себя перестал, смирился, бросил всё к чёртовой матери и пошёл шататься по городу и окрестностям, предоставив возможность событиям развиваться своим чередом.
Всё в городишке этом было серо, уныло, навевало одну только сонную одурь и скуку; домишки повсюду были убогие, как попало лепились вдоль узких и пыльных улочек; даже в центре бродила здесь пернатая домашняя живность; попадались и козы, которые вели себя нагло и агрессивно; и местные жители показались мне тоже непривлекательными, настороженными и угрюмыми, готовыми при малейшем поводе ввязаться в скандал или драку.
Так бродил я довольно долго, пока на закате не вышел на окраину города, к речке. Здесь, почти над самым обрывом, стояла трёхглавая деревянная церковь: крошечная, была она красоты необыкновенной, и выглядела такой лёгкой, такой невесомой... Казалась, дунь посильнее ветер, и церквушка сорвётся с обрыва и понесётся над землею, рекою, всё выше и выше в небеса, к заходящему солнцу... А впритык к церкви стояла узкая деревянная колокольня с высоким шпилем, которая своей высотою и узостью ещё больше подчеркивала изящную малость Божьего дома, делала церковь ещё чудесней, ещё невесомее...
Я простоял так довольно долго, всё никак не мог налюбовался, и уже собирался возвращаться назад, как вдруг — увидел: весь в чёрном, худой, высокий звонарь стал медленно подниматься на колокольню — звонить к вечерней молитве. Было сумеречно, ступени лестницы внутри ажурной конструкции колокольни мне издалека видны уже не были, и казалось от этого, что монах не поднимается, а воспаряет в лучах заходящего солнца. Это было красиво и необычайно величественно — алое небо, тонкое-тонкое серповидное лезвие багряного солнца, узкий чёрный абрис монаха, восходящего на колокольню, и проглянувшие высоко-высоко в чистом небе первые бледные звёзды... Я не мог оторваться и стоял неподвижно, как заворожённый.
Наконец звонарь поднялся на самый верх, на звонницу, к колоколам; какое-то время он стоял недвижимо, будто внутренне собирался, готовился. А жаркая алость заливала весь горизонт, подсвечивая высокую, стройную колокольню и чёрного звонаря, и церковь, и реку, и всю даль за рекой...
И едва только солнце, уже до того висевшее очень низко, зашло окончательно, как в то же мгновение, будто был наверху не православный звонарь, а ревностный солнцепоклонник, торжественно и печально ударили колокола...
Никогда я в Бога не верил, но, когда в вышине зазвучал тяжёлый благовестный колокол, что-то вдруг случилось с моею душою, и на одно лишь мгновение испытал я могущество и глубину истинной, неподдельной веры, озарение, очищение внутреннее... и горние силы были со мной, и восторг от того, что живу... и с ним редкое счастье пришло от познания своей сути, смысла существования.
Я подумал тогда, что дан мне был свыше какой-то таинственный знак. Стал ходить, было, в церковь. Даже несколько раз ездил на богомолье. Но религиозный экстаз оказался мне недоступен, а истовая бессмысленная толпа вызывала внутреннее отторжение, неприязнь и только отдаляла, отвращала от церкви. Поэтому ни к православной, ни к иной какой вере душа моя так и не прилепилась. Может быть, произошло так ещё потому, что искал я в душе и мире не смирение и благочестие, а пронзительную и безграничную красоту, веру вне Бога, что тогда, на закате, навсегда поразила душу. Может быть, но я искренне после этого хотел постичь таинство трансцендентного мира. Есть, наверное, и моя вина в том, что так и не получилось.
Впрочем, жизнь моя с того дня всё равно изменилась. Через какое-то время, когда стали меня раздражать донельзя и города, и люди, и вся людская бессмысленная суета, бросил я всё и всех и живу с тех пор на заброшенном полустанке, один. И если в тихие дни на закате услышу вдруг доносимые ветром голоса деревенских колоколов, снова всплывают в памяти багряное солнце, закатная тихая речка, парящая над обрывом церковь, звонарь-солнцепоклонник... И снова оживает в душе моей чувство чистого неоязыческого восторга и безоглядной, глубинной веры, что испытал я в тот неизгладимый, всю мою жизнь навсегда изменивший день.