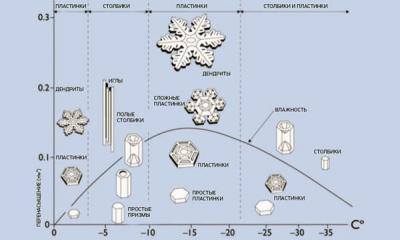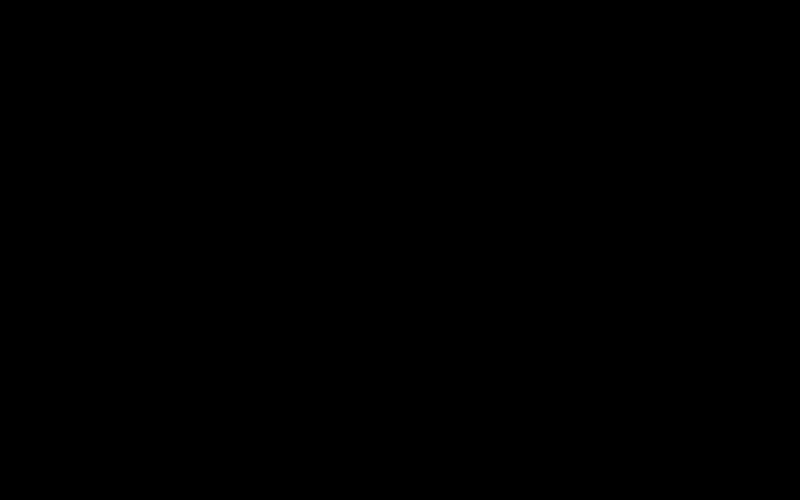Психологическая драма, посвященная Гайто Газданову (1903–1971), выдающемуся русскому писателю осетинского происхождения. Шестнадцатилетним добровольцем он покинул родину с белой армией и большую часть жизни провел в Париже, зарабатывая на хлеб как таксист. В 30-е годы первый роман писателя «Вечер у Клэр» имел успех в эмигрантской среде. Автора называли «русским Прустом». Из-за кордона его тепло приветствовал М. Горький. В настоящее время в России издано полное собрание сочинений Газданова, но он до сих пор остается до конца не разгаданным критикой.
В пьесе Зинаиды Битаровой, петербургской поэтессы и драматурга, выстроен эмоционально-психологический образ писателя-эмигранта Жоржа. Три персонажа или даже четыре (в том числе гротескный, мистический Клошар - он же в дальнейшем Александр Вольф) являются гранями одного сложного характера, а события - явь и воспоминания - происходят в пространстве одной души. С целью достижения максимальной приближенности к прототипу в метафизическую ткань пьесы оригинальным авторским решением органично вплетены фрагменты и реминисценции из ряда автобиографических произведений Газданова. Своеобразная стилистика пьесы - перемежение прозаических диалогов с ритмизованной прозой и стихотворными монологами - подчеркивает полярность образа главного героя драмы: жесткость в неотъемлемом сочетании с романтизмом и лиричностью.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Жизнь иногда ставит нас в тупик, особенно когда мы одиноки. Телефон доверия – искра надежды в цепи отчаяния. Если вам повезет, мудрое сердце отведет беду. В нашей романтической истории невозможное случается. Главная героиня далеко несовершенна, несмотря на свою профессию, однако искренна и талантлива. Она проявляет себя почти волшебницей: перипетии человеческих отношений при ее прямом или косвенном участии преобразуются и порой даже достигают гармонии.
ТАНЕЦ ТРАВЕСТИ
Одноактная поэтическая драма решена в стиле лирического гротеска. Два главных действующих лица – это две стороны одной медали. Язык пьесы – рифмованный и свободный стих с вкраплениями прозы. Поэтический лейтмотив пьесы – стихотворение-песня «Шоковая терапия» – периодически звучит в виде рефрена из двух фраз и отрывками, полностью – в финале. Мелодия для стихотворения может быть подобрана режиссером или написана по его заказу.
КРЫСЫ
"Крысы" – это пьеса о женском одиночестве. Две женщины, совершенно разные по своей биографии и по своему складу, несут в себе нечто общее, а именно, радикал одиночества, что служит причиной к их сближению. Кроме того, они несут в себе и много различного, что тоже, несмотря на конфликты между ними, сближает их, являясь, по-видимому, дополнением и "компенсацией" недостающих каждой из них качеств и "частей". Кроме того, "Крысы" – это пьеса об играх, "в которые играют люди" (Эрик Берн), интригах, тщеславии, предательстве, о комплексах неполноценности и мифотворчестве, которым героини стремятся свои комплексы замаскировать, завуалировать, накладывая толстым слоем вроде грима на уставшее от страстей, неудач и возраста лицо. Они – словно актрисы и так поднаторели в этом (в играх), что даже искушенному читателю порой над страницами пьесы придется погадать, где правда, а где вымысел или попросту – ложь.
ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Пьеса "За каменной стеной" – трагифарс в двух действиях, психологическая и социальная драма, в которой прослеживается история одной семьи в четырех поколениях, где червоточина в корнях (глупость, высокомерие, зацикленность на материальном) отзывается слабостью, неуверенностью, закомплексованностью во втором колене, самовлюбленностью, эгоизмом, разрушением моральных ценностей и преступлением – в третьем, трагическим самоощущением, жертвой и криминальным протестом – в четвертом. Это история о том, что в головах героев есть мысли и рассуждения о разного рода любви, но мало или почти нет любви в их сердцах и поступках, любви как самой элементарной жалости друг к другу.
В пьесе 4 – мужских персонажа, 4 – женских.
, драматург
Зинаида Семёновна Битарова (род. 31 января 1950, Цхинвали , Юго-Осетинская автономная область) - поэтесса , прозаик , драматург .
Биография
1972-1976 гг. - работала детским психоневрологом в Вологодской области .
Отрывок, характеризующий Битарова, Зинаида Семёновна
– Ну, ну, разом, налегни! – кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное, запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий грубо радостный крик и хохот.– Берись по двое! рочаг подавай сюда! вот так то. Куда лезешь то?
– Ну, разом… Да стой, ребята!.. С накрика!
Все замолкли, и негромкий, бархатно приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, враз с окончанием последнего звука, двадцать голосов дружно вскрикнули: «Уууу! Идет! Разом! Навались, детки!..» Но, несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся, и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтенье.
– Эй вы, шестой роты! Черти, дьяволы! Подсоби… тоже мы пригодимся.
Шестой роты человек двадцать, шедшие в деревню, присоединились к тащившим; и плетень, саженей в пять длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и режа плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни.
– Иди, что ли… Падай, эка… Чего стал? То то… Веселые, безобразные ругательства не замолкали.
– Вы чего? – вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.
– Господа тут; в избе сам анарал, а вы, черти, дьяволы, матершинники. Я вас! – крикнул фельдфебель и с размаху ударил в спину первого подвернувшегося солдата. – Разве тихо нельзя?
Солдаты замолкли. Солдат, которого ударил фельдфебель, стал, покряхтывая, обтирать лицо, которое он в кровь разодрал, наткнувшись на плетень.
– Вишь, черт, дерется как! Аж всю морду раскровянил, – сказал он робким шепотом, когда отошел фельдфебель.
– Али не любишь? – сказал смеющийся голос; и, умеряя звуки голосов, солдаты пошли дальше. Выбравшись за деревню, они опять заговорили так же громко, пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами.
В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице короля и захватить его.
Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу, пространству.
Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.
Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров – кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.
Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, – без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, – казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.
Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.
К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.
– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
– Давай сюда. Во важно то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.
– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.
| Зинаида Битарова | |
|---|---|
| Дата рождения | 31 января (1950-01-31 ) (69 лет) |
| Место рождения | Цхинвали |
| Гражданство | Россия |
| Род деятельности | поэт , прозаик , драматург |
| Язык произведений | русский |
| Премии | Премия им. Игоря Северянина (2007) |
| Награды | |
Биография
1972-1976 гг. - работала детским психоневрологом в Вологодской области .
С 2001 года - член Союза писателей России.
Литературным творчеством занималась со школьных лет. В студенческие годы занималась в ЛИТО «Нарвская застава», печаталась в газете «Советский педиатр». Первой изданной книгой явился сборник рассказов «Почему болит голова», выпущенный в 1986 году в издательстве «Мерани» города Тбилиси. Из-под её пера вышли четыре книги стихов, в том числе «Мой платонический роман» (2007), удостоенный премии им. Игоря Северянина . Печаталась в альманахах и сборниках «Дом под чинарами», «День русской поэзии», «Истоки», «Невский альманах », «Адмиралтейская игла», в журналах «Литературная Грузия», «Аврора », в антологии современной петербургской поэзии «Точка отсчета» и др. С 2005 года ежегодно печатается в журнале «Дарьял » (стихи и проза).
В 2008 год по одноимённой пьесе Зинаиды Битаровой Театральной лабораторией под руководством Вадима Максимова поставлен спектакль «Танец Травести» , идущий на разных театральных площадках города до настоящего времени.
В ноябре 2010 года театром «Остров» поставлена пьеса автора «Телефон доверия», вошедшая в репертуар театра. В октябре 2014 года также в театре «Остров» состоялась премьера спектакля по пьесе З.Битаровой «Место действия - душа», посвященной выдающемуся русскому писателю осетинского происхождения - Г.Газданову. Спектакль вошел в репертуар театра.
Весной 2018 года по пьесе "Телефон доверия" в Театре на Покровке Геннадий Шапошников поставил спектакль "Тайные встречи". Зинаида Семёновна присутствовала на премьере и осталась довольна постановкой. Спектакль регулярно играется на сцене театра.
Рецензии на творчество Зинаиды Битаровой
- Надежда Калмыкова. В стране стихийной //Морская газета, 2003, № 51-52.
- Поэзия - это театр (без автора) /Рестораны Петербурга, 2003, № 4, с.4.
- Александр Михайлов . Две встречи с «Пантерой» //
Ты - не раб!
Закрытый образовательный курс для детей элиты: "Истинное обустройство мира".
http://noslave.org
Материал из Википедии - свободной энциклопедии
| Зинаида Битарова | |
| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |
| Имя при рождении: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
|---|---|
| Псевдонимы: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Полное имя |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Дата рождения: | |
| Дата смерти: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Место смерти: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Гражданство: | |
| Род деятельности: | |
| Годы творчества: |
с Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). по Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Направление: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Жанр: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Язык произведений: | |
| Дебют: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Премии: |
Премия им. Игоря Северянина (2007) |
| Награды: | |
| Подпись: |
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |
|
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |
|
| [[Ошибка Lua в Модуль:Wikidata/Interproject на строке 17: attempt to index field "wikibase" (a nil value). |Произведения]] в Викитеке | |
| Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value). | |
Зинаида Семёновна Битарова (род. 31 января 1950, Цхинвали , Юго-Осетинская автономная область) - поэтесса , прозаик , драматург .
Биография
1972-1976 гг. - работала детским психоневрологом в Вологодской области .
Отрывок, характеризующий Битарова, Зинаида Семёновна
Вдруг прямо перед ней развернулся сказочный Звёздный Мост. Протянувшись, казалось, в самую бесконечность, он сверкал и искрился нескончаемыми скоплениями больших и маленьких звёзд, расстилаясь у её ног в серебряную дорогу. Вдали, на самой середине той же дороги, весь окутанный золотым сиянием, Магдалину ждал Человек... Он был очень высоким и выглядел очень сильным. Подойдя ближе, Магдалина узрела, что не всё в этом невиданном существе было таким уж «человеческим»... Больше всего поражали его глаза – огромные и искристые, будто вырезаны из драгоценного камня, они сверкали холодными гранями, как настоящий бриллиант. Но так же, как бриллиант, были бесчувственными и отчуждёнными... Мужественные черты лица незнакомца удивляли резкостью и неподвижностью, будто перед Магдалиной стояла статуя... Очень длинные, пышные волосы искрились и переливались серебром, словно на них кто-то нечаянно рассыпал звёзды... «Человек» и, правда, был очень необычным... Но даже при всей его «ледяной» холодности, Магдалина явно чувствовала, как шёл от странного незнакомца чудесный, обволакивающий душу покой и тёплое, искреннее добро. Только она почему-то знала наверняка – не всегда и не ко всем это добро было одинаковым.«Человек» приветственно поднял развёрнутую к ней ладонь и ласково произнёс:
– Остановись, Звёздная... Твой Путь не закончен ещё. Ты не можешь идти Домой. Возвращайся в Мидгард, Мария... И береги Ключ Богов. Да сохранит тебя Вечность.
И тут, мощная фигура незнакомца начала вдруг медленно колебаться, становясь совершенно прозрачной, будто собираясь исчезнуть.
– Кто ты?.. Прошу, скажи мне, кто ты?!. – умоляюще крикнула Магдалина.
– Странник... Ты ещё встретишь меня. Прощай, Звёздная...
Вдруг дивный кристалл резко захлопнулся... Чудо оборвалось также неожиданно, как и начиналось. Вокруг тут же стало зябко и пусто... Будто на дворе стояла зима.
– Что это было, Радомир?!. Это ведь намного больше, чем нас учили!..– не спуская с зелёного «камня» глаз, потрясённо спросила Магдалина.
– Я просто чуть приоткрыл его. Чтобы ты могла увидеть. Но это всего лишь песчинка из того, что он может. Поэтому ты должна сохранить его, что бы со мной ни случилось. Любой ценой... включая твою жизнь, и даже жизнь Весты и Светодара.
Впившись в неё своими пронзительно-голубыми глазами, Радомир настойчиво ждал ответа. Магдалина медленно кивнула.
– Он это же наказал... Странник...
Радомир лишь кивнул, явно понимая, о ком она говорила.
– Тысячелетиями люди пытаются найти Ключ Богов. Только никто не ведает, как он по-настоящему выглядит. Да и смысла его не знают, – уже намного мягче продолжил Радомир. – О нём ходят самые невероятные легенды, одни – очень красивы, другие – почти сумасшедшие.
(О Ключе Богов и, правда, ходят разные-преразные легенды. На каких только языках веками не пытались расписывать самые большие изумруды!.. На арабском, иудейском, индусском и даже на латыни... Только никто почему-то не хочет понять, что от этого камни не станут волшебными, как бы сильно кому-то этого не хотелось... На предлагаемых фотографиях видны: иранский псевдо Мани, и Великий Могул, и католический "талисман" Бога, и Изумрудная "дощечка" Гермеса (Emeral tablet) и даже знаменитая индийская Пещера Аполлона из Тианы, которую, как утверждают сами индусы, однажды посетил Иисус Христос. (Подробнее об этом можно прочитать в пишущейся сейчас книге «Святая страна Даария». Часть1. О чём ведали Боги?))
– Просто сработала, видимо, у кого-то когда-то родовая память, и человек вспомнил – было когда-то что-то несказанно великое, Богами подаренное. А вот ЧТО – не в силах понять... Так и ходят столетиями «искатели» неизвестно зачем и кружат кругами. Будто наказал кто-то: «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не ведомо что»... Знают только, что сила в нём скрыта дюжая, знание невиданное. Умные за знанием гоняются, ну а «тёмные» как всегда пытаются найти его, чтобы править остальными... Думаю, это самая загадочная и самая (каждому по-своему) желанная реликвия, существовавшая когда-либо на Земле. Теперь всё только от тебя будет зависеть, светлая моя. Если меня не станет, ни за что не теряй его! Обещай мне это, Мария...
Магдалина опять кивнула. Она поняла – то была жертва, которую просил у неё Радомир. И она ему обещала... Обещала хранить удивительный Ключ Богов ценой своей собственной жизни... да и жизни детей, если понадобится.
Радомир осторожно вложил зелёное чудо ей в ладонь – кристалл был живым и тёплым...
Ночь пробегала слишком быстро. На востоке уже светало... Магдалина глубоко вздохнула. Она знала, скоро за ним придут, чтобы отдать Радомира в руки ревнивых и лживых судей... всей своей чёрствой душой ненавидевших этого, как они называли, «чужого посланника»...
Свернувшись в комок меж сильных рук Радомира, Магдалина молчала. Она хотела просто чувствовать его тепло... насколько это ещё было возможно... Казалось, жизнь капля за каплей покидала её, превращая разбитое сердце в холодный камень. Она не могла дышать без него... Этого, такого родного человека!.. Он был её половиной, частью её существа, без которого жизнь была невозможна. Она не знала, как она будет без него существовать?.. Не знала, как ей суметь быть столь сильной?.. Но Радомир верил в неё, доверял ей. Он оставлял ей ДОЛГ, который не позволял сдаваться. И она честно пыталась выжить...
ЗИНАИДА БИТАРОВА
Поэт, прозаик, драматург. Автор нескольких книг прозы и четырех сборников стихов. Печаталась в альманахах и сборниках «День русской поэзии», «Истоки», «Невский альманах», «Адмиралтейская игла», в журналах «Литературная Грузия», «Аврора», в антологии современной петербургской поэзии «Точка отсчета» и др. С 2005 года ежегодно печатается в журнале «Дарьял» (стихи и проза). В 2008 год по пьесе Зинаиды Битаровой Театральной лабораторией под руководством Вадима Максимова поставлен спектакль «Танец Травести», идущий на разных театральных площадках города до настоящего времени. В ноябре 2010 года театром «Остров» поставлена пьеса автора «Телефон доверия», вошедшая в репертуар театра. Живет в Санкт-Петербурге.
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Под занавес, как в театре, когда в нашем маленьком сумасшедшем доме кончается очередной рабочий день и пустеет дотоле суетящаяся ординаторская, там, у телефона, а, может, и не там, а где-то на консультациях, в других отделениях нашей необъятной больницы, мечется дежурный психиатр.
Говоря о маленьком сумасшедшем доме, я, прежде всего, имею в виду, конечно, свое отделение. Куда ему до представительной Скворцова-Степанова с ее огромной территорией, да и до Пряжки тоже! Мы ведь психосоматика, отделеньице на семьдесят пять коек, с боку-припеку к обычной многопрофильной больнице, особо жестокой в своей динамичности, где все — вот уж на самом деле, не ерничая! — течет и изменяется.
Кадры уходят и приходят, новые, каждый день; больные поступают массово, больше по «Скорой» каждый день, а еще больше — каждую ночь; выписываются, часть, долеченные или нездоровые, — это неважно, важен койко-день! — ежедневно, а часть — ежедневно отправляется к праотцам, в домик главного здания напротив, где их разрежут, выпотрошат, диагнозы, клинический и патологоанатомический, согласуют... Потом все это доложится на утренней конференции, и главное тут — чтоб было полное совпадение, тогда дело в шляпе, вот циничное условие, при соблюдении которого жизнь врача-лечебника в нашем учреждении может быть сносной.
Что особенно тягостно здесь, так это не присутствие милосердия, святости, что ли, которые нет-нет да гнездятся юродивыми осколками в обычных психушках. Здесь для этого нет времени и места. Темп и темп! Поступление — выписка, и документация должна быть в ажуре! За оборот койки, который в этом году оказался в три раза выше, чем в обычной психиатрической больнице, пухлому заву нашему, жестокому сладкоежке, дали премию. А у врача в груди — пустота, черная бесприютная полость. Но кому до этого дело!
Да, разве что плесенью развилось бы в маленьком сумасшедшем доме, психосоматике, милосердие! Но администрация, — вы посмотрите только на их каменные, застегнутые лица, да и сам Вас-Ваныч, родной наш, начеку — не позволят-с! Это вроде мании у него, юного, — всего-то двадцать восемь лет мальчику, — властолюбие. Как сказал Артур, единственный в нашем отделении, кроме заведующего, врач-мужчина, он никому, никому из подчиненных, не дает возможности сохранить свою социальную маску, на которую имеет право каждый человек, в данном случае маску сотрудника этого отделения.
— Он размазывает по очереди всех, — повторил Артур.
— Зачем?
— А чтобы над всеми возвышаться — спокойно ответил мне мой собеседник, который знает зава не один год, и, грустно улыбаясь, развел руками.
В ту пустую дождливую осень, в ноябре-месяце, делом престижа стало для меня поднять с постели больную Матвиенко, заставить ее ходить, чего до меня никто сделать не мог.
От нее отступились уже все, и стоял вопрос о переводе на инвалидность, что больную, в общем-то, не устраивало. Этого-то она побаивалась. Но все равно, угрюмая и злая, крепко стерегла свою тайну. Да-да, она не желала сказать нам, отчего заболела.
Помучившись с ней, все почему-то решили, что она — лесбиянка: особенно ненавидела врачей-мужчин и к мужу своему относилась крайне пренебрежительно. Распустили сплетни, — якобы она сама говорила об этом прежнему своему доктору, которая сейчас в отпуске, и не спросишь ее, — что в ответ на особо настойчивые домогательства мужа берет с него «по трешке».
Но сплетни сплетнями, а двадцатишестилетняя лейтенант милиции Алла Матвиенко сидит сейчас передо мной на кровати, вытянув левую ногу так, как это свойственно паралитикам после кровоизлияния в мозг, левая же ее рука близко приведена к туловищу — все как при классическом гемипарезе. Тем не менее, невропатологи реальность гемипареза категорически исключают. А лейтенант милиции больной рукой кое-как поддерживает транзистор, в котором что-то там крутит здоровой правой. Крупная, рослая, с атлетическими плечами, и узкая — в бедрах. А лицо ее было бы даже по-детски милым, — детскости добавляет короткая стрижка с нависающей на лоб челкой, — если бы не крайне угрюмое выражение. Тоненький шерстяной свитер бордового цвета и темно-синие джинсы — вот наряд, в котором я видела ее ежедневно.
Она днями валялась на койке, накручивая транзистор, а ночами не спала, претенциозно требуя у сестер все новых и новых снотворных. На врачебных обходах по просьбам охотно демонстрировала ухудшение: как сведенную судорогой руку не может отвести от туловища, как нога становится «совсем палкой» — тогда пациентка практически не может передвигаться сама, а лишь с превеликим трудом, с посторонней помощью, добирается кое-как до туалета.
При первой беседе со мной она сказала:
— Вы напрасно будете стараться, все равно ничего не получится.
— Почему вы так думаете?
— Я знаю.
— Как вы можете знать?
Больная молчит.
— Вы можете это знать, если только сами не хотите выздороветь и будете мне мешать себя лечить.
Пациентка усмехается, тяжелая у нее усмешка.
— Как же это я не хочу?!! Скажете тоже!
— Тогда у меня есть большие надежды, — стараюсь высказываться бодренько, но, кажется, получается фальшиво: надежд у меня маловато, зато много желания. Матвиенко смотрит исподлобья и говорит:
— Вы тоже начнете выспрашивать меня о муже, о наших с ним отношениях, сплю я с ним или не сплю? Так ведь? — 0на кроет прямо, и я на секунду теряюсь.
— Почему вы так думаете? — никчемный вопрос-ответ, просто тяну время, и мне стыдно, оттого что пока она меня побивает.
— Но ведь вы, врачи, решили, что причина болезни в том, что меня не удовлетворяет муж. Я не знаю, как он после этого еще сюда ходит и разговаривает с вами, я на его месте за такое оскорбление, прежде всего, морду набила бы кому следует. Что вы думаете, как должна я относиться к врачам после того, как дорогого, близкого мне человека оскорбляют мне в глаза, говорят про него гадости?
Я молчу, всматриваясь в ее напряженное и красивое сейчас лицо. У нее карие глаза, темные брови, тонкий рисунок носа... А если разок двинет рукой, может и прихлопнуть. Я думаю о том, что все, что она только что здесь произнесла в отношении врачей, чистая правда: мои предшественники думали о причине ее болезни именно так, причем, первым, подавшим такую гипотезу, был Артур. Это его конек: искать сексуальную почву у женских неврозов.
Но что же делать мне с Аллой, как разгрести завалы в ее душе?
Я знала, что ждет меня она каждый день, несмотря на весь ее поначалу скептический вид. Она уже разрядила на мне свое негодование против моих предшественников и даже милостиво разрешила обращаться к ней на «ты»: она моложе меня на десять лет. Я беседую с ней ежедневно не менее двух часов, меньше не получается, иначе я оставлю ее напряженной. Делаю я это наощупь. Разговоры приходится вести иногда невесть о чем, чтобы не думала она, что относятся к ней не как к человеку, а только как к объекту, от которого надо добиться во что бы то ни стало определенных признаний. Чувствую, что в свою очередь изучают и меня, взвешивают на своих внутренних весах, насколько я отвечаю тем или иным принципам и взглядам на жизнь.
Она одаривает меня и откровением относительно своего детства — мечты стать милиционером, но это — в ответ на мое признание, что я, в пятом классе, очень хотела быть следователем.
— Вот видите, вы хотели, да расхотели, а я как хотела, так и сделала! — говорит она не без гордости, слегка даже по-юношески хорохорясь, поэтому я не берусь сообщать ей о длинной череде моих детских замыслов, где до следователя был летчик, а после следователя — художник, психиатр, астроном...
Наше общение представляется мне поединком. Между моей наступающей волей и ее, сопротивляющейся. Но как важно, чтобы это не было очевидно. Здесь ведь не следственное дело — давай-давай, рассказывай, басенок не надо, факты, факты, факты! — здесь наступление ведется таким интересным образом, что ты начинаешь сопереживать чувствам того, кого изучаешь. Ты уже плачешь его слезами, ты уже любишь его — и только тогда хаос его чувств вообще, а к тебе, в частности, — недоверие, подозрительность, страх, что могут не понять, оскорбить, хотя бы усмешкой, — конгломерат этот ужасный начинает потихоньку расплавляться, оттаивать под воздействием твоего горячего дружелюбия.
А до поры, до времени он (она) не хочет тебе признаваться, не будет признаваться... Да кто ты такой, в конце концов, — ну, и что, что врач! — чтобы тебе исповедоваться, ведь не священник... Даже и тот как символ чистого доверия оплеван, и на исповедь в церковь, чтобы грехи с себя снять, никто из нас не ходит... Психоаналитиков, как на Западе — такого мы не ведаем. Живем себе, как в лесу, и столько звериного в нас накопилось, что хочет это воплем многомиллионным прорваться, но... вот так, врачу, — несмотря на то, что он клянется, божится, о Гиппократовой клятве говорит, — выложить куски развороченной собственной судьбы и кровоточащей души: на, мол, смотри, разбирайся, я тебе доверяю, верю в твою порядочность, в твои силы, поможешь?!! Да, откуда же родится такое доверие, и чему мы удивляемся, что Матвиенко угрюма и замкнута? Мы-то сами разве доверимся тому, кто к нам холоден, равнодушен, недолюбливает или попросту брезгует нами? Нет, мы будем с ним осторожны: не принес бы нам урон какой... А ведь пациентка еще из милиции нашей доблестной к нам пришла, там-то чего она насмотрелась?
Врачебная ошибка в отношении Матвиенко была серьезной и заключалась в том, что больную сначала обвели чертой недоверия, — не притворяется ли, не симулирует ли? — затем наслоили на нее нездоровое любопытство, а затем возвели стену предубеждения, — неизлечима, потому что сама не хочет! — и брезгливой неприязнью, — по-видимому, лесбиянка! — гипотезу возвенчали. Все! Матвиенко в своих переживаниях ороговевшим хитином обернулась несколько раз вокруг себя и превратилась в чудовище, на которое сами же врачи теперь с ужасом и взирали. Ошибка была в том, что ее никто не смог полюбить.
Увидев Аллу впервые, я сразу же ощутила ее «своей» больной: почувствовала, что смогу понять ее, расположиться к ней и ее расположить к себе, что смогу ее «раскрутить». Надо было только работать, за что я охотно и взялась, и не просто охотно, а как будто бес в меня вселился! Осень в тот год была особенно пустой и холодной.
Я уже завладела ее полупризнанием, что на душе у нее лежит грех, тяжелая вина, и что болезнь ее, может быть, и в какой-то степени неотвратима.
Вас-Ваныч грубовато шутил по поводу моих самоотверженных стараний с Матвиенко и недоумевал, что я иду у нее на поводу, уединяясь с ней в отдельном кабинете в конце рабочего дня.
— Мне жалко вашей энергии — сказал он мне как-то раз, — подавайте-ка документы на инвалидность да на консилиум ее, пусть ученые с кафедры разбираются, что с ней делать... А то у вас какое-то непрофессиональное поведение… она сядет вам на голову!.. скоро будет гладить вас по рукам, еще не гладит? — смеется наш сладкоежка, в последнее время он что-то совсем распух. Насмеявшись вволю, он неожиданно дал мне дельный совет:
— Знаете, из болезни ее надо вышибать стрессом, а не уговорами. Вполне официально, категорично поставьте перед ней альтернативу: или-или! Или выписка на своих ногах, или на инвалидность — через неделю. Вот так и скажите: четыре месяца прошло — и баста!
Прошло три дня, в течение которых в беседах с пациенткой я ненавязчиво отрабатывала альтернативу, родившуюся в голове нашего зава, жестокую, однако действенную позицию. Она родила напряжение эмоций и воли у Матвиенко и жестко поставила ее перед проблемой выбора. А я и подталкивала ее, и боялась срыва. Как в воду глядела.
Сегодня утром на пятиминутке доложили, что ночью у Матвиенко была истерика: она билась головой о батарею, у нее «отнималась» и правая сторона. Оказывается, началось это еще вечером в присутствии мужа, которому мы дали пропуск для ежедневных посещений, и продолжилось до утра. Ко всем неприятностям вдобавок вышли осложнения с мужем, который повздорил с бедным Артуром, дежурившим в эту ночь. Мужа разозлило, видимо, то, что врач отнесся к истерике больной вполне адекватно: слегка похлопал ее по щеке и велел впрыснуть аминазин, а его выпроводил из отделения.
Он, муж Матвиенко, «ангелочек», встретил меня у ограды больницы в цветастенькой рубашечке, выступающей из-под синего пиджачка: несмотря на моросящий дождик, в ноябре он почему-то был без верхней одежды. Как выяснилось, он оставил ее в гардеробе, чтобы потом еще раз бесхлопотно зайти вовнутрь. А у меня мелькнула несуразная мысль, что, может быть, он и не ходил домой, а провел ночь в вестибюле на скамейках…
Он бежал по моим пятам и бубнил про бессердечие Артура и еще обмолвился, что врач все время занимался с другой тяжелой и, по-видимому, умирающей, больной. «Кто бы это мог быть?» — мелькнула тревожная мысль.
— Ну, вот видите, Алла-то не умирает, слава богу! — грубовато пошутила я, желая разрядить собеседника.
— А вдруг и с ней что-нибудь случится? — возразил мне мужчина и сразу уничтожил сочувствие к себе.
У него — маленькие голубенькие глазки, мелкие черты лица, непонятная плюгавость во всем облике. Я никак не могу понять, откуда она проистекает: и рост у него достаточен, и сложение обычное... Вот, разве, наклон головы какой-то лакейский и собачье выражение на лице: меня-то с Артуром нет-нет, да и куснет, а Алле, видимо, лижет пятки. И меня тут озаряет: да, конечно, не может Матвиенко, какая она есть, что бы она там ни говорила, любить его.
Отделавшись от прилипчивого «ангелочка», я влетела в ординаторскую и увидела замученного Артура. У него за эту ночь запали щеки и ввалились глаза.
— Да, она давала сегодня концерт, да еще тут покойница у меня, не твоя, — отвечает он на мой немой вопрос. — Красницкой старушка... А я видел в окно, как этот дурак бежал за тобой, он не сказал тебе, что уже пытался нажаловаться на меня начмеду, да не застал его на месте?
— Бедняга ты! — говорю я ласково Артуру, облачаясь в халат.
Алла спит, угомонилась. Через санитарку я велю передать это известие мужу, затравленно ожидающему у дверей отделения. Я даю себе слово, что сегодня «добью» Матвиенко во что бы то ни стало.
Ее ввезли в кабинет психолога, где мы с ней обычно общаемся в конце дня, на каталке: она не смогла доковылять сама, «после этой ночи отнялась и правая нога».
Лениво и сонно она пыталась жаловаться мне на Артура. Заводясь, упомянула было о том, что он смел трогать ее лицо: «лицо — это святыня», она может и ответить. Тут я попыталась сыграть на струнах ее честолюбия: она так ревностно относится к своим погонам. Я сказала ей, что она — кто угодно, но не истеричка.
— Понимаешь, если уж болеть, то по законам логики ты должна болеть иначе, — я говорила так, как будто убеждала ее сменить свою болезнь на другую, и говорила так долго, пока на насупленном лице не мелькнула улыбка. Я была рада ей несказанно: знала, что, если она мелькнула раз, то «промельки» последуют еще. Я старалась играть и на других струнах: я говорила, что коллеги мои не верят в мой успех, в наш с ней успех, и просила ее помочь нам обеим, потому что наши интересы совпадают.
— Представляешь, как все раскроют от удивления рты, когда ты сама придешь к нам из палаты в ординаторскую… у тебя, наверное, легкая и спортивная походка. — Я вижу в глазах Аллы, дотоле сонных, огоньки, она, похоже, загорелась моим азартом. — А секрета, как да что получилось, никому не откроем, врачебная тайна!
Она сразу погрустнела от этих моих слов: ей тяжко было раскрывать секрет и мне, а без этого, — Алла уверовала, — было не выздороветь, а выздороветь, вроде бы, захотелось, но все еще по инерции она сказала:
— Болезнь моя — это наказание.
— Ну, что ж! Вину можно искупить.
— Как?
— Работой, добром… и временем, которое, говорят, лечит все. Боль будет проходить постепенно вместе с исчезающим чувством вины. На семьдесят процентов чувство вины исчезнет, когда ты откроешь ее мне.
Алла смотрит на меня с ужасом:
— Я хочу, чтобы оно исчезло сразу, на все сто процентов!
Я на минуту задумываюсь после этого шедевра: надо ли обещать больше?
— Но ведь я так сказала, я ведь точно ничего не знаю, может, твоя вина не стоит и ломаного гроша. Впрочем, я уже говорила тебе, что догадываюсь, в чем состоит твоя вина.
Она взглянула на меня с любопытством, но нам помешала медсестра: пришла с растормаживающим веществом для внутривенной инъекции.
Эта процедура нравится больной. Наверное, потому, что она при этом хмелеет, и ее натянутые нервы расслабляются, исчезает на время гнетущее напряжение. Тем не менее, достичь желаемого результата, несмотря на все возрастающие дозы, мне, похоже, не удастся и на этот раз: очень уж пациентка сильна физически, и язык у нее, ради чего мы и городим огород, не развязывается — она, знай себе, только ловит кайф на диагностических растормаживаниях.
Дождавшись, когда сестра уйдет, и наблюдая блаженный хмель, все-таки расслабивший лицо больной, я сказала:
— Алла, теперь я почти точно знаю, как ты заболела... В этом женщина виновата, не правда ли?
Пациентка посмотрела на меня с удивлением и кивнула.
— Твоя подруга, не так ли?
Она опять кивнула.
— Близкая, любимая подруга?
— Да.
— То, что случилось, не преступление, поверь мне. Это тебе только так кажется, ты страшно преувеличиваешь свою вину.
Я почувствовала, как она напряглась.
— То, что произошло у тебя с подругой, случалось даже с великими людьми, вот и про Шекспира ходят слухи... Это особенность такая у человека… болезнь… может быть, беда, но не преступление.
— Это не то, что вы думаете, — вдруг спокойно и холодно сказала Алла, и меня, как холодным душем, обдало ей презрением, зато ее собственное напряжение, заметила я, исчезло. Я сделала минутную передышку, отерла со лба пот.
— Что тогда? Что же? Расскажи сама. У меня нет других путей помочь тебе.
Она решилась рассказать мне свою тайну лишь к вечеру, почти перед самым моим уходом с работы. Дело в том, что сегодня у нас был особый день, день встречи с родственниками больных, и обычно мы задерживаемся в эти дни до часов семи. Так вот она тянула до последнего, затем сказала мне, что решилась и приковыляла, опираясь на палку — она опять ходит — в маленький, соседний с ординаторской, кабинетик, курилку для врачей. Там сейчас никого не было.
Я не представляла себе, что могу услышать от нее, но, наверное, все-таки не то, что довелось.
Ее замужняя подруга, подруга детских лет, забеременела в отсутствие плавающего на судне мужа от негра. Вовремя не избавившись от бремени, собралась на искусственные роды к какой-то знахарке на окраину города и попросила Аллу сопровождать ее. Ведьма-знахарка сделала свое дело — на глазах у Матвиенко появился черненький младенец, которого мать своими руками и с помощью повитухи, должно быть, — сама свидетельница уже была близка к обмороку, отчетливо все не помнит, — утопила в лохани с водой. В избе было много крови, грязи, воды... Трупик то ли зарыли, то ли еще что с ним сделали... Алла бормочет уже совсем невнятно, а я уже не хочу никаких подробностей, мне кажется, меня стошнит, я чувствую себя соучастницей этой подлости, я вижу как наяву эту преподлую картину, я знаю, что больная не врет. Но мне непременно надо ей что-то сказать, она ведь ждет, я ведь так уверенно, так царственно, как священник, нет, почти как сам Господь Бог, обещала ей снятие греха с души, а сижу, словно подавившись костью, и не могу, не могу вымолвить ни слова. «Сейчас, сейчас...», — бормочу я, затем говорю, что ничего, все равно надо держаться, как-нибудь переживется, но знаю, что все это неубедительно: она видит мое потрясение, как ей поверить, что я могу ей чем-то помочь?
В дверь, к счастью, стучат. Это меня вызывают в ординаторскую: ко мне для беседы пришел кто-то из родственников.
— Мы пообщаемся завтра, что-нибудь придумаем, — говорю я, стараясь не смотреть Алле в глаза. Слегка поддерживая ее за локоть, выхожу с нею из курительной в коридор, где навстречу нам бросаются большие глаза мужа, в каждом из них — страх с высокую башню. Оказывается, следуя моим советам, она поведала эту историю непосредственно передо мной и ему.
— Возьмите ее, успокойте, — сказала я мужчине, — завтра поговорим.
Мне плохо спалось ночью: меня душили вырванная мной тайна и мое собственное бессилие. Это же будет душить меня с не меньшей силой и в последующие дни, оттого что мои королевские расчеты на мгновенное излечение не оправдались. Рана после вскрытия гнойника не желала очищаться сразу.
Я не сумела убедить больную, как этого, вероятно, жаждало ее подсознание, в том, что она не сотворила ничего особенного. Вот если бы мне удалось — тогда бы и произошел эффект чудесного исцеления! Но я, — не слишком-то и горжусь этим — не умею лгать. Ведь и надо было только обесценить ее поступок в ее собственных глазах, представить его в другом ракурсе, принизить до пустяка — в общем, не знаю, но по размышлении думаю, дело тут не во лжи, а просто в некоторой изворотливости ума. Ах, если бы мне быть чуть-чуть таким фокусником...
А она при встречах в последующие дни не смотрела мне в глаза, едва спала, едва ела. Ночами ее били судороги, а днем она лежала, стиснув зубы и уставившись взглядом в потолок. Ее руки уже не дотрагивались до транзистора. Ей явно было хуже, чем до признания.
Муж-дурак ежедневно караулил меня по утрам у ограды больницы. А я могла говорить ему только пустые словеса.
— Ну, что? Что у тебя с Матвиенко? — допытывался Артур. Он, конечно, заметил кризисный момент в наших с ней отношениях. Но неужели он думал, что, не снеся яйца, я буду кудахтать? Я сказала ему, что похвастаться нечем.
Спустя неделю Алла снова стала говорить со мной, ее раздирали, мне казалось, противоречивые чувства. Я подозревала, что она может ненавидеть меня за вырванную тайну.
— Зачем вам надо было это? — неожиданно мягко, хоть и с укором спросила она. — Вот теперь и вам приходится тяжело, надо молчать, и вы как бы разделяете это преступление.
Я подумала, что она — вовсе не дура и сказала ей:
— Да, это так! Но ведь разделяю же, скажем так, не преступление, ошибку — и тебе должно стать легче вдвое, нет втрое, потому что вместе с нами твой муж. И тебе уже стало легче, просто ты это еще не поняла, и станет гораздо легче еще через несколько дней. Но ты должна поверить мне до конца, что так оно и будет, раз уж доверилась. И ты сама должна хотеть выздороветь, помогать себе сама, — я пользуюсь благоприятным моментом, раз уж сегодня соизволила Матвиенко снизойти до меня из хитиновой своей берлоги, иду ва-банк, — надо разрабатывать руку и ногу, они здоровы, просто застоялись от бездействия, давай-ка мне свою руку!
Я беру ее кисть и мну обеими руками. Должна сказать, что если не психиатром, то мне, видит Бог, можно было бы стать массажистом: мои пальцы очень цепки и удивительно хорошо чувствуют чужую плоть.
Рука больной расслабляется под моими поглаживающими и разминающими движениями. Я чувствую, что пациентка расслабилась и внутренне. Неожиданно она признается мне, что ее шантажирует подруга-детоубийца, которой по телефону она зачем-то сообщила, что открылась лечащему врачу. Оказалось, что та приходила в воскресенье со своим мужем в отделение, в часы, отведенные для свиданий с больными, и пыталась запугать больную.
— Она не понимает, не верит, что я болею из-за нее!
— Хочешь, я запрещу впускать к тебе всех, кроме мужа?
— Нет, она догадается.
— Ну, тогда пришли ее ко мне. И давай, начинай ходить, сделай мне подарок!
— Да, я бы хотела, но не могу! — опять передо мной этот набыченный угрюмый лик и редко-редко — детская улыбка. Я думаю о том, что женского лица у пациентки я не видела: наверное, его вообще не существует. Папаша ее там — какой-то Карамазов-старший, мамаша глас не подаст никогда, оба сюда ни разу не показались. Какая уж тут женщина могла вырасти в их семье? Вот вырос лейтенант милиции, инспектор по делам несовершеннолетних, и они, начальница и подопечные, кажется, неплохо ладят друг с другом, она так тепло говорит о них.
— Трусишь ты, боишься будущего! — хочу немножко подзавести я Аллу.
— Не трушу!
— А если честно? Тебе ведь некого бояться: со мной — это железно, подруга твоя, — неужели ты все еще считаешь ее подругой? — будет молчать из своего собственного интереса. Другое дело — совесть. Но ведь в твоем случае и с ней можно договориться, только надо понять себя, как, например, я тебя понимаю, а, значит, уже простить. Ты сможешь, ты постепенно простишь себя: ведь тебе есть для чего жить. Тебя любит муж, у тебя сын — надо снова начинать жить, ты сможешь.
Она смотрит на меня с некоторым укором, она размякла, чувствуется, что ей хочется пожаловаться мне, так и есть, она бубнит:
— Если бы вы знали, какая мерзкая ситуация у нас дома! Мы с мужем не имеем жилья и вынуждены жить у моих родителей. Отец — тяжелый человек, выпивает, унижает моего мужа на моих глазах. Вы бы видели...
Это так странно: опустить свою ладонь на склоненную передо мной бедовую голову и погладить ее. Я делаю это осторожно и всего несколько раз — думаю, Боже, как мы все закомплексованы, я вот стесняюсь запросто, по-женски, от души пожалеть человека, я помню, что на мне халат врача, что он обязывает... И тут я злюсь на самое себя: а к чему же он меня обязывает?.. неужели к соблюдению писанных и неписанных циркуляров, от которых тошно? А вот если бы я сейчас могла, — хочется мне! — порыдать над судьбой Аллы, поплакать как человек, внезапно влезший в ее неуютную шкуру. Я ведь чувствую, как по книге читаю, что ее мало любили и мало ласкали родители, а муж попался такой, что сам нуждается в обогреве, и вот они, супруги, жмутся, притираются друг к другу, два одиноких человека, а ни у одного из них нет того огня, который согрел бы обоих. Они по-своему дороги друг другу, — она, видимо, жалеет его, — но все-таки очень разделены.
— Все будет хорошо, я знаю, вот посмотришь. Только сделай мне подарок к консилиуму: начинай ходить!
— Я не хочу, чтобы меня расспрашивали обо всем с самого начала…
— Этого не будут делать только в одном случае: если ты зайдешь в кабинет абсолютно здоровой.
В пятницу, — этот день показался мне весенним, — Матвиенко сказала мне, что к понедельнику, ну, ко вторнику, выздоровеет.
— А в среду утром вы меня выпишите, хорошо? Без консилиума!
— Хорошо, без консилиума.
В среду Вас-Ваныч толкал в бок Артура и хмыкал; хлопала в ладоши, разгорячасъ, Настасья Красницкая; уперла руки в боки да так и застыла скульптурной социалистической работницей Антонина; а Артур, самоуничижаясь, просил меня поведать секрет излечения Матвиенко только ему.
— Понимаешь, для будущих случаев, что я там упустил…
Мне неприятно огорчать его, но что же мне, нарушать клятву, как он думает?
— Но там не лесбиянство? — допытывался он.
— Нет, — отвечала я.
Все радовались, а мне было не по себе. Алла Матвиенко, которой я жила так долго и напряженно, что не заметила, как пришла зима, — сегодня дома мне напомнили, что снег, не пора ли переходить на сапоги? — уходила от меня странно, сухо и холодно, одна. Казалось, она не была счастлива, что выздоровела, что руки-ноги вполне подвластны ей, что она может вернуться к прежней жизни. Я спросила, почему не встречает муж, и услышала: очень занят, а верхнюю одежду принес ей еще накануне.
Я снова и снова пыталась выяснить причину ее странного настроения — она вяло махнула рукой и сказала, что дома бузит отец, так, что и рассказывать не хочется. Оказывается, он всегда считал ее «психом» и не очень-то верит, что ее вылечили, а думает, что врачи просто-напросто «зажали» инвалидность.
— Спасибо, доктор, — отстраненно сказала мне Алла, возвышаясь надо мной. Я впервые заметила, какая она высокая: выше меня на голову. Движения ее были свободны.
Я смотрела на нее, как будто прикидывала: такая, как сейчас, что сможет сделать из своей жизни... И не знала, что ей сказать на прощанье, но мне до глубины души было больно — за все, я боялась нечаянных слез. Боль достигла вдруг отчаянной остроты — у меня неловко вырвалось:
— С тобой уходит половина моей души… желаю тебе счастья.
— Да-да, — как бы согласилась она.
Я не видела, как санитар запер дверь, я была уже в ординаторской.
— Что?.. ушла? — не замедлил ввернуть всеведущий Вас-Ваныч. — Реабилитировали ее, а она, животное, даже цветов вам не подарила.
Я узнала обо всем этом спустя неделю, когда Алла пришла ко мне с цветами. Она поблагодарила меня и за то, что диагноз, поставленный мной при выписке, был абсолютно нейтральным. Ее заявление о переходе на работу в отдел убийств высоким начальством было одобрено.