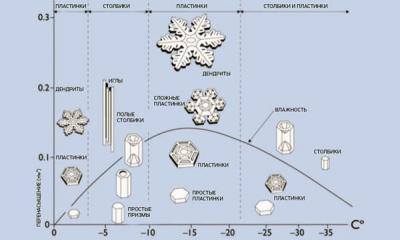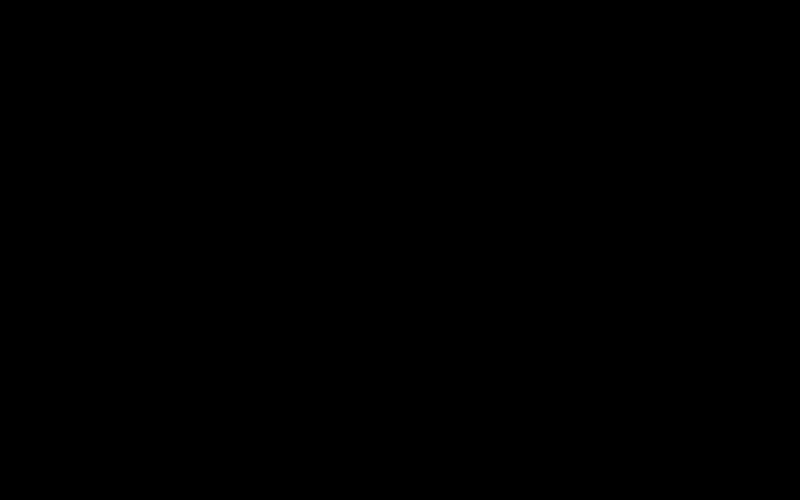56 лет назад, второго и шестого ноября 1958 года "Правда" опубликовала два "покаянных" письма автора романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака.
Письмо Хрущеву
Восемь дней назад Нобелевский комитет в Стокгольме объявил о присуждении премии по литературе поэту Борису Пастернаку. По совокупности заслуг перед мировой литературой и за создание "в трудных условиях" романа "Доктор Живаго". Пастернак еще не подозревает, что через два дня "Правда" опубликует его письмо верховному правителю Никите Хрущеву. Собственно, и о самом письме он еще не знает.
Тем временем в доме музы поэта Ольги Ивинской скрипят перья. Молодой адвокат из Управления по охране авторских прав Зоренька Грингольд подсказал ("подтолкнул") Ивинской мысль о письме. Хотя и без Зореньки она уже говорила писателю Федину о письме "кому угодно", подписать которое она бралась "уговорить Пастернака". Ивинская вместе с Ариадной Эфрон зовут к себе сына драматурга Всеволода Иванова, Вячеслава, и сообщают ему: "по словам адвокатов по авторским правам, ситуация стала угрожающей. Если Борис Леонидович не напишет письма с покаяниями, то его вышлют за границу. "Его вышлют, а нас всех посадят", - со свойственной ей категоричностью сформулировала Ариадна Сергеевна".
Вячеслав Иванов с Ариадной Эфрон, Ивинской и ее дочкой Ирой Емельяновой садятся составлять письмо Хрущеву, руководствуясь пожеланиями тех же адвокатов. Формулировки, заверит потом Иванов, давались ему с трудом, так что "в основном придумывали Ольга Всеволодовна и Ариадна Сергеевна". Пригодились готовые фразы Пастернака, в частности, из его письма Фурцевой.
После чего Иванов с Емельяновой отправились в Переделкино к Борису Леонидовичу. Так Пастернак узнал о том, что он написал письмо Никите Сергеевичу.
Перепечатанный текст он взял только "после очень долгого телефонного разговора с Ольгой Всеволодовной". На машинописной копии этого письма остались замечания Пастернака синим и красным карандашом на полях. Просьба заменить "в вашем письме" абзац: "Я являюсь гражданином своей страны..." словами: "Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее". В конце страницы его синим карандашом вычеркнуто: "Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры" и написано: "Я это обещаю. Но нельзя ли на это время перестать обливать меня грязью". Эти слова Пастернака зачеркнуты чужой рукой простым карандашом.
В письмо, по словам Евгения Борисовича, сына Пастернака, вписали одну из его поправок, - этим его участие и ограничилось. Бумагу немедленно отвезли в Москву. Подпись под письмом была его - вынужденная подпись.
Что могло его "вынудить"? К тому времени Пастернак - после ссоры с Ивинской ("Тебе ничего не будет, а от меня костей не соберешь"!) - уже отправил телеграмму в Стокгольм с "добровольным отказом" от Нобелевской премии. Еще один известный факт: чуть позже, в феврале, после того, как в лондонской Daily Mail появилось стихотворение "Нобелевская премия", переданное Пастернаком, жена поэта, Зинаида Николаевна, в присутствии иностранных журналистов заявит: "Если это будет продолжаться, я уйду от тебя". Это - к тому, меж каких "двух огней" был в те дни Пастернак, больше всего опасавшийся возможных бед для своих родных и любимых.
Ко времени появления письма Борис Пастернак был назван на всю страну: а) овцой ("паршивая овца"), б) лягушкой ("лягушка в болоте", в) свиньей ("даже свинья не гадит там, где ест").
Уже произнесут и ставшее легендарным "Пастернака не читал, но осуждаю": а) слесарь-механик 2-го часового завода тов. Сучатов, б) экскаваторщик Федор Васильцов, в) секретарь Союза писателей СССР Анатолий Софронов.
На третий день после присуждения премии, 25 октября, заседала партийная группа Президиума Союза писателей. "В выступлениях тт. Грибачева и Михалкова была высказана мысль о высылке Пастернака из страны. Их поддержала М. Шагинян".
На пятый день, 27-го, писатели собрались на совместное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума Правления Московского отделения Союза писателей РСФСР. Пастернак прислал им записку, в которой уверял, что искренне верит: "можно быть советским человеком и писать книги, подобные "Доктору Живаго". Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания"… В той же записке: "Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит".
Записку признали "возмутительной по наглости и цинизму", ибо "Пастернак захлебывается от восторга по случаю присуждения ему премии и выступает с грязной клеветой на нашу действительность". Твардовский, которого Пастернак спас во время нападок на его "Страну Муравию", не был по болезни.
Чуковский, поначалу поздравивший Пастернака с премией, был пристыжен, за него реабилитировался сын, Николай Корнеевич: "Во всей этой подлой истории, - сказал Н. Чуковский, - есть все-таки одна хорошая сторона - он сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним так, как мы поступаем с врагами".
Считавшийся другом Пастернака поэт Николай Тихонов (за которого Пастернак вступался, когда над тем сгущались тучи в 30-е годы) председательствовал на писательском заседании. Писательница Г. Николаева заявила, что Пастернак - "власовец": "Мало исключить его из Союза - этот человек не должен жить на советской земле". Писательница Вера Панова: "Видеть это отторжение от Родины и озлобление даже жутко". Выступившие поэты Леонид Мартынов и Борис Слуцкий потом всю жизнь казнились, но тоже выступили с осуждением Пастернака - Давид Самойлов потом объяснил: из желания спасти от погрома поэтический цех и утвердить "новый ренессанс". Семен Кирсанов не выступал, но проголосовал вместе со всеми за исключение Пастернака из числа членов Союза писателей СССР.
Литинститут полным составом осудил "предательство в отношении Родины". "Только два студента - Панкратов и Харабаров, вхожие в "салон" Пастернака, проявили колебания и не сразу подписали это письмо". Прежде чем подписать, они пришли к Пастернаку просить разрешения предать его. Пастернака поразило, как весело побежали они потом по дорожке, держась за ручки.
…Все это короткий (подробностей на самом деле куда больше) пересказ того, что произошло всего за десять дней. Пастернака раздирали со всех сторон - буквально. Коротко говоря, нечеловеческие внешние и внутрисемейные обстоятельства - все это вместе взятое и не оставляло Пастернаку выбора: он подписал письмо Хрущеву, которого не писал. На десятый день после присуждения Нобелевской премии газета "Правда" опубликовала это письмо.
Уважаемый Никита Сергеевич,
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству. Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что правительство "не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР".
Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.
Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии. Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры. Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.
Б. Пастернак
(К письму приложена записка: "Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 31.X.58. В. Малин").
Письмо в "Правду"
Одного письма оказалось мало. Дмитрий Поликарпов, завотделом культуры ЦК, требует от Пастернака, чтобы он "помирился с народом". Пастернак отвечает: "Ведь вы - умный человек, Дмитрий Алексеевич, как вы можете употреблять такие слова. Народ - это огромное, страшное слово, а вы его вытаскиваете, словно из штанов, когда вам нужно".
Однако Пастернаку (а также Ивинской) мгновенно остановили все выплаты гонораров, отменили все договора и заказы на переводы, отменили спектакли по переведенным Пастернаком пьесам, блокировали всю переписку. Поликарпов обещал уладить все эти проблемы - так в конце концов было составлено еще одно "письмо Пастернака". В редакцию газеты "Правда". Ольга Ивинская расскажет спустя годы: "Борис Леонидович написал - сначала это было отнюдь не покаянное письмо. Потом над ним сильно потрудились, так что получилась ложь и признание вины. Да еще подчеркнуто добровольное".
Сохранились черновики этого письма. Вот что было в первоначальном, предложенном Пастернаком тексте: "В продолжение бурной недели я не подвергался судебному преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Если благодаря посланным испытаниям я чем и играл, то только своим здоровьем, сохранить которое помогли мне совсем не железные запасы, но бодрость духа и человеческое участие. Среди огромного множества осудивших меня, может быть, нашлись отдельные немногочисленные воздержавшиеся, оставшиеся мне неведомыми. По слухам (может быть, это ошибка) за меня вступились Хемингуэй и Пристли, может быть, писатель-траппист Томас Мертон и Альбер Камю, мои друзья. Пусть, воспользовавшись своим влиянием, они замнут шум, поднятый вокруг моего имени. Нашлись доброжелатели, наверное, у меня и дома, может быть, даже в среде высшего правительства. Всем им приношу мою сердечную благодарность.
В моем положении нет никакой безвыходности. Будем жить дальше, деятельно веруя в силу красоты, добра и правды. Советское правительство предложило мне свободный выезд за границу, но я им не воспользовался, потому что занятия мои слишком связаны с родною землею и не терпят пересадки на другую".
Отправляя текст, Пастернак просил Поликарпова "не увлекаться переделкой и перекройкой" написанного. Однако окончательный текст значительно отличался от первоначального. По словам Евгения Пастернака, оба эти письма нельзя публиковать, как "письма Пастернака". Хотя и под вторым письмом стоит такая же вынужденная подпись поэта.
"Я обращаюсь к редакции газеты "Правда" с просьбой опубликовать мое заявление. Сделать его заставляет меня мое уважение к правде.
Как все происшедшее со мною было естественным следствием совершенных мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии. Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской Академии Андерсу Эстерлингу. Но я ошибся. Так ошибиться я имел основание, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например пять лет назад, когда моего романа еще не существовало.
По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа, и убедился, что это присуждение шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ. В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.
Но между мною и этой связью стали стеной препятствия по моей собственной вине, порожденные романом. У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу. Редакция "Нового мира" предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею.
В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию.
Мне ясно, что под такими утверждениями, доведенными до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему в конце концов я от премии отказался. Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии (издания в других странах выпускались без моего ведома), вероятно, мне удалось хотя бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно об этом говорить.
В продолжение этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершаются добровольно. Люди, близко со мною знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают. Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей.
Б. Пастернак".
(К письму приложена записка: "Срочно. Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 5.ХI-58 г. В. Малин". Опубликовано в "Правде" 6 ноября 1958 г.).
Послесловие к двум письмам
11 февраля 1959 года в лондонской Daily Mail появилось стихотворение "Нобелевская премия", переданное Пастернаком: "Я пропал, как зверь в загоне. Всюду воля, люди, свет, А за мною шум погони. Мне наружу ходу нет..."
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора -
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
После этой публикации Пастернак был задержан посреди улицы, усажен в автомобиль и доставлен на допрос к генпрокурору Руденко. Допрос, судя по сохранившейся неполной стенограмме, свелся к запугиванию поэта. Подготовка судебного процесса против Пастернака действительно шла - судя по сохранившимся архивным документам.
Тем временем итальянский издатель "Доктора Живаго" Джакомо Фельтринелли уже перечислил на швейцарский счет, открытый для Пастернака, 900 тысяч долларов. Пастернак вынужден был отказаться от этих вкладов - после чего вой вокруг него стал утихать. Заплатили за выполненные переводы. Опять прикрепили к поликлинике Литфонда.
Правда, через год Борис Пастернак умер. Лечили от пневмонии, внезапно обнаружили рак легких. Ольгу Ивинскую после смерти Пастернака посадили на три года, незаконно обвинив в получении денег за "Доктора Живаго".
* * *
Кажется, все в истории с "Доктором Живаго", Нобелевской премией автору и расправой над писателем время расставило по местам. Но эта история все равно осталась загадкой. Необъяснимой с точки зрения здравого смысла, простой человеческой логики и даже государственных интересов.
Почему надо было визжать, а не гордиться? Почему было расправляться, а не радоваться? Отчего с такой готовностью сотни и тысячи человек бросились топтать и врать про одного - гениального? Не один только страх тут был. Было и другое. Слесарю светила премия от бригадира. Чиновнику продвижение за рвение. Писателю удовлетворение тщеставия и ревности, каракулевая шапка и к тому же - вдруг освободится дача литфондовская? Во всякой расправе каждому из тысяч палачей светит что-то свое, тихое, неприметное.
Удобно и плоско - смахнуть эту историю со стола, объяснив все мотивы и поступки одним лишь кровожадным ужасом системы. Главный ужас-то в другом: в абсолютной искренности предательства, лицемерия, подлости и готовности растоптать любого. Из любой личной выгоды. Из кланового интереса. Потому что в тусовке не поймут. По партийному долгу. Для креативной солидарности. Потому что пацаны обидятся. Просто потому что не "свой". Просто зло берет, что талантливей. Просто - если не растопчу, меня растопчут. Просто выпал случай отыграться. Просто своя рубашка дороже. Просто один раз - не тарантас. Просто ты мне друг, но если из нас двоих что-то светит не мне, а тебе, - перешагну через твой труп… И это до бесконечности.
Главный ужас в том, что вот это неистребимо в людях. При любой системе, при любом либерализме. Стоит только кому-то не так прислониться к дверному косяку. Да еще ловить в далеком отголоске, что случится на твоем веку.
Настежь все, конюшня и коровник.
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, -
Пахнет свежим воздухом навоз.
(Б.Пастернак, "Март")
«Гнев народа поднялся великим шквалом», «Стереть с лица земли!» и другие удары по Зиновьеву и Каменеву
Подготовила Надежда Бирюкова
21 августа 1936 года в «Правде» было опубликовано открытое письмо советских писателей «Стереть с лица земли!». Написанное в рамках борьбы с группой бывших руководителей партии, главным образом оно было направлено против Григория Зиновьева и Льва Каменева. Письмо подписали 16 известных писателей: Владимир Ставский, Константин Федин, Петр Павленко, Всеволод Вишневский, Александр Афиногенов, Николай Погодин, Леонид Леонов и другие. Среди них стояло имя Бориса Пастернака.
«Пуля врагов народа метила в Сталина. Верный страж социализма — НКВД схватил покушавшихся за руку. Сегодня они — перед судом страны. <...>
Но кто же так нагло покушается на наши судьбы, на душу и мудрость наших народов — на Сталина? Агент фашистской охранки Фриц Давид. На что он способен? Из-за угла убить вождя человечества, чтобы открыть дорогу к власти диверсанту-террористу Троцкому, диверсантам-террористам, лжецам Зиновьеву, Каменеву и их подручным.
Наш суд покажет всему миру, через какие смрадные щели просовывалось жало гестапо, этого услужливого покровителя троцкизма. Троцкизм сделался понятием, однозначным подлости и низкому предательству. Троцкисты стали истинными служителями черного фашизма. <...>
История справедлива. Она отдает социализму лучшие человеческие силы, создавая гениев и народных вождей. Фашизму история оставляет самые низкие отбросы, подобных которым не знал мир. <...>
Гнев народа поднялся великим шквалом. Страна наша полна презрения к подлецам.
Старый мир собирает последние свои резервы, черпая их среди последних предателей и провокаторов мира.
Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной защиты».
Cовременников подпись Пастернака под открытым письмом поразила. Марина Цветаева писала своей чешской подруге, переводчице Анне Тесковой:
«Дорогая Анна Антоновна,
вот Вам — вместо письма — последняя элегия Рильке, которую, кроме Бориса Пастернака, никто не читал. (А Б. П. — плохо читал: разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни (Процесс шестнадцати)?!)»
Обстоятельства, при которых фамилия Пастернака появилась в газете, выясняются из дневника литературного критика Анатолия Тарасенкова:
«Затем наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев — Зиновьев). По сведениям Ставского, Б. Л. вначале отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже напечатанного списка. Выступая на активе „Знамени“ 31 августа 1936 года, я резко критиковал Б. Л. за это Отказ от подписи. . Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус Валентин Асмус, философ и литературовед. . Когда после этого я приехал к Б. Л., холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя
Б. Л. перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной Зинаида Николаевна Нейгауз, жена Пастернака. , которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался „оправдать“ мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек».Анатолий Тарасенков
Через 20 лет Пастернак вспоминал:
«Именно в 36-м году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35-м году казалось), все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал».
Прав ли был Слуцкий, когда он писал: "Грехи прощают за стихи. Грехи большие - за стихи большие", я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: "Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь", пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения" .
Галина Медведева: "…трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв… За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью…"
Несмотря на отказ от премии, Пастернак, по-разному оцененный в обществе и литературных кругах, вел себя мужественно и удивительно спокойно. По свидетельству близких, Борис Леонидович в самые тягостные и мрачные октябрьские дни 1958 года работал за столом, переводил "Марию Стюарт". Но "эпопея" не могла не отразиться на здоровье. Менее чем через два года после травли и вынужденного отказа от премии, 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался. Ему было семьдесят лет. Он уходил из жизни так же мужественно, как и жил. Похороны Пастернака оказались первой публичной демонстрацией набиравшей силу демократической литературы.
Слуцкий в годы, последовавшие после 1958-го, думал о московском писательском собрании и о своем выступлении, писал стихи, которые становятся более понятны, коль скоро они воспринимаются на фоне пастернаковской истории.
Бьют себя мечами короткими,
проявляя покорность судьбе,
не прощают, что были робкими,
никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай,
как его там ни назови,
солью самою злой, колючей
оседает в моей крови.
Солит мысли мои и поступки,
вместе, рядом ест и пьет,
и подрагивает, и постукивает,
и покоя мне не дает.
Жизнь, хотя и окрашенная мрачными воспоминаниями, продолжалась. "Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60–70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. "Политическая трескотня не доходит до меня", - писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды - и она откликалась в нем строками прекрасных стихов" (Ю. Болдырев).
Глава седьмая
ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА
Еврейская тема для русского поэта Бориса Слуцкого оставалась постоянной болью и предметом глубоких раздумий. "Быть евреем и быть русским поэтом - ноша эта была для души его мучительной" .
Эта тема всегда была в России (и не только в России) болезненной, деликатной, сложной для поэтического воплощения. В какой-то мере ее удалось воплотить Михаилу Светлову, Иосифу Уткину, Эдуарду Багрицкому, Александру Галичу, Науму Коржавину.
"Пастернак затронул ее в стихах начала тридцатых годов, - пишет Соломон Апт в воспоминаниях о Борисе Слуцком, - затронул мимоходом, намеком, как бы на секунду, высветив лучом, но не задерживаясь, не пускаясь в глубь вопроса о зависимости широкого признания от его укорененности в почве…" Еще в 1912 году, в пору увлечения философией, Пастернак писал отцу: "…ни ты, ни я, мы не евреи; хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем все, на что нас обязывает это счастье (меня, например, невозможность заработка на основании только того факультета, который дорог мне), не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство" . (Еврей в России не мог быть оставлен при университете, а для философа это было единственной возможностью профессиональной работы.) Вопрос этот волновал Бориса Пастернака и в последние годы жизни. Ему посвящены две главы (11 и 12) "Доктора Живаго". Пастернак устами Живаго говорит, что "противоречива самая ненависть к ним <евреям>, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое" . Другой персонаж романа, Гордон, ищет ответ на вопрос: "в чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько неповинных стариков, женщин, детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению?" Сам поэт видел выход в ассимиляции.
Эта тема волновала и близкого друга Слуцкого Давида Самойлова. Правда, у него нет стихов, посвященных еврейскому вопросу, но в 1988 году, незадолго до кончины, вспоминая Холокост, "дело врачей" и антисемитизм послевоенной поры, Самойлов записал в дневнике: "Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: "Шема исроэл, адэной элэхейну, эдэной эход". Единственное, что я запомнил из своего еврейства" . Он мог бы добавить и то, что передалось ему от любимого отца, - чувства двойной принадлежности России и еврейству.
Слуцкого не пугало, что ход в эту "проклятую" область был наглухо запрещен. Ему не впервой было писать "в стол". Стихи на еврейскую тему были вызваны непреходящей болью. И писал он об этом вовсе не потому, что антисемитизм касался его лично или что Холокост унес жизни его близких: он ненавидел любые проявления ксенофобии. Верный лучшим традициям русской литературы, Слуцкий всегда был на стороне преследуемых и угнетенных.
Стихи и проза, относящиеся непосредственно к еврейской теме, органично вплетены в творчество поэта, в котором гимн мужеству российского солдата, сострадание его военной судьбе и радость за его успехи соседствуют со стихами, полными жалости к пленному итальянцу ("Итальянец"), смертельно раненному "фрицу" ("Госпиталь"), престарелой немке ("Немка") и возвращающимся из советских лагерей польским офицерам армии Андерса ("Тридцатки").
Поэт отстаивал необходимость впитывания евреями культуры тех народов, в среду которых их поместила судьба, и вписывания еврейского опыта в культурный контекст этих народов.
Я не могу доверить переводу
Своих стихов жестокую свободу,
И потому пойду в огонь и воду,
Но стану ведом русскому народу.
Я инородец; я не иноверец.
Не старожил? Ну что же - новосел.
Я как из веры переходят в ересь,
Отчаянно в Россию перешел…
В стихотворении "Березка в Освенциме" Слуцкий не случайно пишет: "Свидетелями смерти не возьму // платан и дуб. // И лавр мне - ни к чему. // С меня достаточно березки". Он подчеркивает тем самым и свое еврейство (ибо Освенцим был построен для уничтожения именно евреев), и свою верность России (ибо березка - символ России). Для Слуцкого неразрывными оказываются его еврейство, русский патриотизм и интернационализм. Без этих трех составляющих невозможно представить себе ту идеологию Бориса Слуцкого, которой он оставался верен до конца своих дней.
Позорное событие литературной и общественной жизни страны второй половины пятидесятых годов было связано с романом Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В него оказался втянутым и Борис Слуцкий - трехминутное выступление против Пастернака стало трагедией Слуцкого до конца его дней.
Отношение к Б. Л. Пастернаку в советское время всегда было настороженным. Особое беспокойство партийно-литературного руководства в 1946 году вызвал растущий интерес к Пастернаку на Западе, тогда имя поэта впервые было упомянуто среди кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Пока это еще не было связано с романом: писатель начал работать над ним в конце 1945 года. Скандальный характер события приняли в ноябре 1957 года, после выхода романа в Милане в переводе на итальянский. (В мае - июне следующего года книга вышла во Франции, Англии, США и Германии.) Чашу терпения идеологических бонз переполнило присуждение Борису Леонидовичу Пастернаку Нобелевской премии «За выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и продолжение благородных традиций великой русской прозы» (23 октября 1958 года). Ответ Пастернака Нобелевскому комитету: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, смущен» - оказался последней каплей.
Пастернак писал роман, не таясь. Готовые главы читал близким людям, посылал отрывки сестрам в Англию (с просьбой никоим образом не публиковать). В январе 1956 года передал рукопись журналу «Новый мир», но вскоре стало ясно, что журнал никогда не опубликует романа. Через полгода Пастернак заключил договор на издание «Доктора Живаго» в Италии с коммунистом-издателем Фельтринелли. Этот шаг поэта стал известен Москве. Неожиданно в январе 1957 года договор на издание «Доктора Живаго» предложил Гослитиздат. Договор был подписан. Обнадеженный возможностью появления романа в России, Пастернак обратился к Фельтринелли с просьбой задержать публикацию до выхода его в Москве.
Создавая роман, Пастернак не собирался в какой-либо мере придать ему антисоветскую направленность. Основная тема романа заявлена как «противопоставление языческого Рима (читай: Сталинской Москвы) - христианству, рабства - свободе, народов и вождей - личности».
Издание романа было связано с риском, и Пастернак понимал это. Еще в 1945 году, задумывая «Доктора Живаго», Пастернак писал: «Я почувствовал, что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».
Отсутствие в романе прямых антисоветских пассажей все же не остановило власти перед тем, чтобы воспрепятствовать его изданию. В ЦК сознавали опасность романа, понимали, насколько несовместимы провозглашенные в нем общечеловеческие ценности с господствующей идеологией: выход романа в свет мог пробить серьезную брешь в плотном идеологическом заборе. Была дана команда ни в коем случае не публиковать роман. Договоры на издание в России оказались фикцией.
В сентябре 1958 года, когда стало известно о возможности присуждения Пастернаку Нобелевской премии, рассматривался план избежать скандала. Предполагалось издать «Доктора Живаго» в Москве малым тиражом с ограниченным сообщением об этом в печати. Но план этот отвергли и предпочли развернуть широкую политическую кампанию дискредитации автора и романа. Было предусмотрено подключение общественности к бездумному шельмованию в духе тридцатых годов. Времени на подготовку и осуществление плана было мало.
На 27 октября было назначено расширенное заседание руководства союзных и московской писательских организаций. 25 октября «Литературка» опубликовала отзыв редакции «Нового мира», послуживший основанием для отказа от издания романа, и редакционную статью «Провокационная вылазка международной реакции». В тот же день в «Правде» появилась злобная статья Д. Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка».
В полном согласии с этими статьями намечалось обсуждение вопроса: «О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя».
Пастернаку послали приглашение. Больной, он на заседание не поехал, но послал объяснительную записку. Поэт просил товарищей не считать «мое отсутствие знаком невнимания». Он напоминал, что «в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий», что роман сначала был отдан в наши издательства в «период общего смягчения литературных условий», когда существовала надежда на публикацию. «На моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью… Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит». Далее Пастернак выражал согласие денежную часть премии внести в фонд Совета Мира, не ехать в Стокгольм за ее получением или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей.
Записку Пастернака расценили как «возмутительную наглость и цинизм». Единодушно поддержали постановление президиума о лишении Пастернака звания советского писателя и об исключении его из числа членов Союза писателей. В те же дни в стране проходили митинги и собрания, осуждавшие великого поэта и его роман.
Против кого было направлено все это безумное, позорное действо? Против романа? Нет, о нем забыли, его как бы и не было. Против Нобелевского комитета и премии? Нет: только против самого писателя и его поведения. Его несгибаемость перед властью, его гордая позиция - вот что больше всего не только злило, но и вызывало страх. Боялись заразительного примера недопустимого неподчинения.
Решением об исключении из Союза писателей завершался первый акт трагедии.
На 31 октября было назначено общее собрание московских писателей. По советской традиции решение президиума должны были одобрить все писатели. За два дня до этого на пленуме ЦК комсомола секретарь В. Е. Семичастный (будущий председатель КГБ СССР) сравнил Пастернака со свиньей, которая «никогда не кушает там, где гадит», и пожелал, чтобы отъезд Пастернака за границу освежил воздух.
Мероприятие должно было пройти гладко, без эксцессов. Началась идеологическая обработка будущих участников, и главный упор был сделан на тех, чье участие повысило бы авторитетность собрания. Стали вызывать в ЦК и в парткомы писателей известных, чей творческий авторитет и моральная репутация не были подмочены соглашательством. Сдались Твардовский, С. С. Смирнов, Вера Панова, Николай Чуковский. Другим «известным» (Маркову, С. Михалкову, Прокофьеву, Соболеву, Антонову и многим другим) не пришлось сдаваться: они были «добровольцами».
В числе других вспомнили о Борисе Слуцком. После письма И. Г. Эренбурга в издававшейся миллионным тиражом «Литературке», полемике вокруг этого письма и читательского успеха первой книги «Память», Слуцкий стал заметной фигурой и его имя было на слуху. Биография Слуцкого соответствовала «критериям» - участник Великой Отечественной войны, раненный на фронте, поэт, чьи антисталинские стихи были известны широкому читателю, «человек безупречной этической репутации» (Евг. Евтушенко), писатель, пробившийся в литературу через рогатки цензуры, несмотря на сопротивление именно тех, кто сейчас клеймил «отступничество» Пастернака. В ЦК знали, что «известный советский поэт Слуцкий» слыл в обществе самым значительным антисоветским поэтом. «Разгадка этого парадокса, - пишет Олег Хлебников, - только в том, что, не будучи врагом советской власти и электрификации всей страны, Слуцкий писал и о том и о другом правду - так же как о войне, о довоенном терроре, о сталинизме вообще, о послевоенном государственном антисемитизме…» Много стихов Слуцкого ходило по рукам в списках. Некоторые из них попадали за границу и публиковались в сборниках советской неподцензурной поэзии. Привлечение «советского - антисоветского» поэта рассматривалось как одна из главных задач идеологической подготовки собрания: участие такого человека позволяло руководству говорить: «Видите, против Пастернака выступает не только Софронов, но и Слуцкий».
Слуцкого, члена партии, партком обязал уговорить беспартийного Леонида Мартынова обрушиться на Пастернака. Об этом вспоминает С. Липкин - но из его воспоминаний получается, будто бы Мартынов «уговорил» Слуцкого. «Кандидатура Мартынова, - пишет Семен Липкин, - нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: “А почему вы не берете слово? Я выступлю только в том случае, если выступите вы”. Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: “В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав”. Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я думаю, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе». Не подвергаем сомнению то, что Слуцкий так именно и говорил С. Липкину, но известным фактам это противоречит. Во всяком случае, не «за полчаса» до начала собрания решал Слуцкий вопрос - выступить или уклониться.
Заинтересованность руководства в привлечении Слуцкого была так же велика, как и понимание того, что «такого» трудно будет уломать. Последовали вызов в ЦК, беседа у Поликарпова, вызовы в партком.
По свидетельству В. Кардина, Слуцкому сказали, что «во исполнение долга коммуниста он обязан заклеймить Пастернака на собрании московских писателей. Таково партийное задание…». Кардин это запомнил со слов Слуцкого.
Слуцкий оказался в партийном капкане, зажатым между долгом и совестью, между обязанностью и честью.
Долг и обязанность, как их тогда понимал поэт, взяли верх. Об этом он писал в стихах:
Музыка далеких сфер, противоречивые профессии. Членом партии, гражданином СССР, подданным поэзии был я. Трудно было быть. Все же был. За страх, за совесть. Кое-что хотелось бы забыть. Кое-что запомнить стоит. Долг, как волк, меня хватал. (Разные долги, несовпадающие.) Я как Волга, в пять морей впадающая, сбился с толку. Высох и устал .
Слуцкий был принципиальным противником предварительной публикации произведений за рубежом: он считал, что писатель обязан печататься на родине. Так думали и его друзья-литераторы. В «Подённых записях» Самойлова за 1960 год (с. 301) есть такая пометка: «Вознесенский сказал мне, что английский журналист Маршак опубликовал в Лондоне мои стихи. Какова мораль западного журналиста! Они не понимают, что мы не желаем ссориться с родиной. Все, что нам не нравится, - внутреннее дело. Никому не дозволено в это вмешиваться!» У Николая Глазкова была целая баллада под названием «Беседа с чертом», в которой черт соблазнял поэта славой и богатством, полученными благодаря зарубежным публикациям. Стихотворение кончалось красноречиво: «Отойди от меня, сатана!» Были и менее строгие суждения. «У нас, - вспоминает Нина Королева, имея в виду своих ленинградских товарищей, - было свое понимание проблемы “поэт и власть”: государство печатает и награждает того, кто прославляет и пропагандирует его и партийную политику… Факт появления “Доктора Живаго” за границей мы считали жестом смелым и вызывающим, на который поэт имеет право, но и государство имеет право его не одобрить. А руководство московской писательской организации мы считали насквозь продавшимся советской власти и партии за блага и подачки».
Самому Слуцкому никогда не приходило в голову передать за границу для опубликования свои «Записки о войне». Эта «деловая проза» - острая правда о войне - пошла бы нарасхват у зарубежных издательств. То же относится и к сотням стихов, лежавших в столе поэта, не имевших шансов быть напечатанными на родине. Стихи Слуцкого печатали за границей, но не по его воле. Сам он свои стихи туда не посылал. «Межиров в самый расцвет застоя, - вспоминает Олег Хлебников, - показал мне вышедшую в Мюнхене антологию советской неподцензурной поэзии, в которой было напечатано много неизвестных тогда российским читателям стихотворений Слуцкого. Но Слуцкий и тут оказался верен себе - он не передавал свои рукописи за границу. Это сделал кто-то из его поклонников: стихи Слуцкого тогда расходились в списках. А немцы поступили корректно по отношению к поэту: напечатали его большую подборку, не указав имени автора. Более того: подборка была разбита на две части и над обеими значилось “Аноним”. Но для тех, кто понимает, “фирменная” узнаваемая интонация Слуцкого говорила об авторстве красноречивее подписи. К счастью, литературоведы в штатском не слишком квалифицированны, а уж к поэзии точно глухи».
Эта принципиальная позиция Слуцкого, несомненно, оказалась той щелочкой, сквозь которую смогли добраться до него и уговорить выступить. Успех «обработчиков» стал возможен также благодаря глубокой партийности Слуцкого. Об этом говорят многие близко знавшие и дружившие с ним.
«Член КПСС Слуцкий, - писал Владимир Корнилов, - долго, почти всю свою жизнь, продолжал верить в партию, вернее, упорно заставлял себя в нее верить…» Верность «строительной программе» и партийный долг, а отнюдь не трусость или конъюнктурные соображения заставили Слуцкого поддаться на уговоры и требования парткома.
Наум Коржавин: «Я… тогда нисколько, ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически - понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал».
B. Кардин: «Обстоятельно рассказывая мне о собрании, Слуцкий не искал оправдания… хотел понять, как с ним стряслось такое. В поисках объяснения он сказал: - Сработал механизм партийной дисциплины…»
C. Апт: «Почему он, поэт, присоединился тогда к хору хулителей? Скорее всего, он сделал это “в порядке партийной дисциплины”, думаю, что ему в ультимативной форме предложили выступить… Думаю, что он и в самом деле был ошеломлен тем, что Пастернак напечатал свой роман за границей… Вполне допускаю, что и в присуждении Пастернаку Нобелевской премии Слуцкий мог увидеть акцию политическую…»
Когда я впервые после случившегося приехал в Москву и встретился с Борисом, я рискнул его спросить. (Мне было тяжело напоминать о случившемся. Вообще, близкие старались не говорить об этой истории, понимая, как он сам трагически переживает ее. Обходили молчанием, не сговариваясь.) Но я не мог не спросить. Не помню точно моего вопроса. В нем не было одобрительного подтекста, но и не начинался он со слов «Как ты мог?».
Борис ссылался на сильный нажим, вызов в ЦК. Он был, что называется, прижат к стенке положением секретаря партбюро (или члена партбюро - не помню точно) поэтической секции московской писательской организации. Положение обязывало. Смысл его оправданий сводился к тому, что ему оставалось только «выступить как можно менее неприлично». Говорил, сколько пережил мучительных часов в поисках формы и содержания своего выступления. Но колебаний «выступить или воздержаться» я в его словах не почувствовал.
Разговор наш он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял эти слова как выражение поддержки «оттепели»; больше к этой теме мы никогда не возвращались (П. Г.).
Между тем здесь-то и заключалось главное. Борис Пастернак был враг «оттепели»; Борис Слуцкий был ее убежденным певцом.
Пастернак в разговоре с Ольгой Ивинской в 1956 году высказал свое отношение к «оттепели»: «Так долго над нами царствовал безумец и убийца, а теперь - дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие; теперь нас захватило царство посредственностей». Старший сын записал реплику Пастернака осенью 1959 года: «Раньше расстреливали, лилась кровь и слезы, но публично снимать штаны было все-таки не принято».
Слуцкий был тем, кому «оттепель» дала голос, да он и сам пытался стать голосом «оттепели». Он сформулировал все те положения, которые в силу многих причин не мог сформулировать Никита Хрущев. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», или «Перекур объявлен у штурмовавших небо», или «Вы решаете судьбу людей? Спрашиваете про детей, узнавайте, нет ли сыновей у негодяя», или…
Эти формулы Слуцкого врезаются в память, и не хуже поэтических афоризмов Пастернака. Порой они даже похожи на пастернаковские - а порой пастернаковские строчки становятся похожи на строчки его антагониста: «История не то, что мы носили, а то, как нас пускали нагишом…» - «Семь с половиной дураков смотрели восемь с половиной!»
Это не удивительно: Пастернак был одним из поэтических учителей Слуцкого - не прямо, как Сельвинский или Брик, но опосредованно, не так явно, как, скажем, Ходасевич, чьи строчки и образы Борис Слуцкий использует в самых неожиданных ситуациях, но… все-таки был. Больше того: в первом зафиксированном высказывании Бориса Слуцкого о поэзии мелькает тень Пастернака - об этом мы уже писали во второй главе.
1937 год. Четверо подростков проводят шуточную анкету. Отвечают на один-единственный вопрос: «Что такое поэзия?» Один из подростков - Борис Слуцкий. Его ответ удивителен и своей оглядкой на Пастернака, и своим бесстрашием для тех лет тотального страха. «Мы были музыкой во льду» - «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.)». В этом его ответе сквозили и будущая чрезвычайно короткая военно-юридическая деятельность, и отказ после этого опыта от какой бы то ни было работы, связанной с юриспруденцией в условиях советского строя, и единственная ошибка, которую совершил Слуцкий в условиях этого самого строя.
Давид Самойлов, рассуждая об особенностях мышления своего «друга и соперника», пишет о «неумении предвидеть» Бориса Слуцкого. Замечание на редкость тонкое и точное, но неполное. Можно было бы предположить, что «неумение предвидеть» Бориса Слуцкого связано с его «фактовизмом», с тем, что он «с удовольствием катился к объективизму», - но как тогда связать этот «фактовизм», это «стремление к объективности» с утопизмом Бориса Слуцкого, с его верностью двадцатым годам, тогдашней готовности переделать и перекроить мир?
Скорее всего, дело было в том, что Слуцкий не столько «не умел предвидеть», сколько не хотел - и потому не мог… Борис Слуцкий писал «после будущего», после того, как все, что могло произойти, - произошло:
…Но задача, когда-то поставленная, не решенная, как была, и стоит она старая, старенькая, и действительно плохи дела. Удивительно плохи дела…
По этой причине Борис Слуцкий был поэтом последовательно трагического мировоззрения. В этом его принципиальное отличие от исторического оптимиста Бориса Пастернака.
Один из самых больших парадоксов эпохи - столкновение двух этих поэтов. Как ни удивительно, ницшеанец Борис Пастернак не просто вписывался в советскую идеологическую и эстетическую систему, он был одним из ее создателей, одним из самых талантливых ее творцов, тогда как демократический коммунист, ставший «гнилым либералом», Борис Слуцкий оказался одним из ее разрушителей. Многосотстраничный «Доктор Живаго» жанрово продолжает советское романное многопудье, тогда как «Кельнская яма» и уж тем более «Бог» становятся точкой разрыва традиции.
Типологического сходства с Пастернаком у Бориса Слуцкого не было. Было немало перетолкованных, переиначенных цитат - например, «День был душный, а тон был пошлый». Не было типологического сходства, но была отталкиваемая генеалогия. Полное, принципиальное, идейное несоответствие наложилось на ту игру, которую затеяли власти с интеллигенцией. Повторимся: если бы Пастернака спросили, готов ли он каким-либо смелым поступком разоблачить гнилостный обман «оттепели», обозначить те границы, за которые она не шагнет, он бы ответил: Да, готов… Если бы Слуцкого спросили, готов ли он сколь возможно расширить «оттепельные» границы, он бы ответил… Понятно, что бы он ответил.
При общем несходстве было в этих поэтах нечто общее, причем проявлялось оно в различии. И то и другое ярче всего проявлялось в том, как они читали стихи: так же, как и разговаривали в жизни. А дальше начиналось различие, потому что Пастернак разговаривал так же, как читал стихи. Слуцкий же читал стихи так же, как разговаривал: спокойно, деловито, сухо. Докладывал обстановку: «Человек на развилке путей / прикрывает глаза газетой, / но куда он свернет, / напечатано в этой газете. // (…) На развилке пред ним два пути, / но куда ему все же идти, / напечатано в этой газете». Эти стихи, впрочем, иначе как деловым и спокойным тоном и не прочитаешь. Интонация бытовой беседы у Пастернака была одической, пиитической, поэтической. Стиховая, поэтическая интонация у Слуцкого была интонацией бытовой, деловой беседы, даже если речь шла о чем-то невыносимом, ужасном: «Нас было семьдесят тысяч пленных в большом овраге с крутыми краями…»
Думал ли Слуцкий о последствиях своего выступления, о том, как отнесутся к этому товарищи, о своей репутации, о себе, о Тане? Не мог не думать. Понимал ли, что один только факт появления на трибуне позорного судилища надломит, перекорежит всю жизнь? Конечно понимал. Но, принимая решение, он посчитал правильным поступиться личным интересом для общественной пользы, как он ее (пользу) понимал.
«Кто из нас, людей фронтового поколения, - писал В. Кардин, - прожил безгрешно? История Слуцкого особая. Он признавал свою вину… за “ошибочки”, ведшие к общим бедам. Пусть они совершались помимо него, пусть партия не спешила брать на себя ответственность за них. По собственной воле, по велению совести он принял на свои плечи непомерный груз, который норовил отпихнуть от себя едва не каждый».
«Чем упрямее Слуцкий намеревался следовать тому, чему присягнул, во что хотел, вопреки многому, верить, тем очевиднее проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей, общая, всех нивелирующая, такая, при которой индивидуальный и недюжинный ум излишен» (Ст. Рассадин).
«Видимо, после пастернаковской истории, - пишет Вл. Корнилов, - Слуцкий написал:
Уменья нет сослаться на болезнь, Таланту нет не оказаться дома. Приходится, перекрестившись, лезть В такую грязь, где не бывать другому.
Как ни посмотришь, сказано умно, Ошибок мало, а достоинств много. А с точки зренья Господа-то Бога? Господь, он скажет все равно - говно.
Господь не любит умных и ученых, Предпочитает тихих дураков, Не уважает новообращенных И с любопытством чтит еретиков.
Это стихотворение напоминает строки Багрицкого:
Неудобно коммунисту Бегать как борзая…»
Здесь сыграло искреннее, хотя и ошибочное, убеждение Слуцкого в возможности либерализации общественной жизни, в необходимости поддержать и не дать увянуть первым росткам свободы. Поступок Пастернака казался ему провокацией, после которой может начаться «завинчивание гаек». Он посчитал, что отказ от выступления, уклонение от выполнения партийного задания объективно навредит «оттепели». Он думал, что ему удастся перевести обсуждение поступка Пастернака в осуждение Нобелевского комитета.
Мне приходилось неоднократно быть свидетелем жарких споров на эти темы между Слуцким и Самойловым. Самойлов считал XX съезд и последовавшее за ним известное постановление ЦК 1956 года высшей точкой «синусоиды», допускал возможность нисходящих и новых восходящих ветвей развития, понимал временный, преходящий характер «оттепели». Слуцкий был убежден и настаивал на том, что теперь развитие пойдет по «прямой» вверх. Я в своих оценках колебался между мнениями своих друзей: хотелось, чтобы все сложилось «по Слуцкому», но не верилось «по-самойловски». Стоит ли говорить, что жизнь подтвердила правоту Самойлова и заблуждение Бориса? Не в этом ли заблуждении причина трагедии Слуцкого? Не это ли объясняет (но не оправдывает) мотивы, приведшие Бориса Слуцкого на трибуну печально известного собрания московской писательской организации, подвергшего избиению Бориса Пастернака? (П. Г.)
За сутки до собрания Пастернак отказался от премии. В телеграмме в Стокгольм он писал: «В связи со значением, которое Вашей награде придает то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ». В этом не было ни малодушия, ни тем более трусости. Он боялся, но не за себя: его глубоко беспокоила судьба близких.
Но запущенный механизм травли не мог остановиться. Как бы то ни было, 31 октября собрание состоялось, и Борис Слуцкий на нем выступил.
О собрании написано немало. Приведем лишь впечатление присутствовавшего на собрании А. Мацкина:
«Удивительная была аудитория - все дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией, обнаружили себя в этой вакханалии…
Хотя это был конец 50-х годов, расправа шла по ритуалу процессов 30-х. Ораторы, сменяя друг друга, неистовствовали, и каждый старался превзойти другого в своем трибунальстве.
И вдруг в эту оргию включаются два достойнейших поэта - Слуцкий и Мартынов…»
Изданный позднее стенографический отчет позволяет представить, насколько «дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией» господствовали на собрании, сравнить выступление Слуцкого с другими выступлениями и убедиться, насколько удалось Слуцкому реализовать свой замысел «выступить как можно менее неприлично». Почти все выступавшие солидаризировались с комсомольским вожаком Семичастным, назвавшим Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест». С. С. Смирнов: «…я как-то невольно согласился со словами товарища Семичастного… Может быть, это были несколько грубоватые слова и сравнение со свинством, но по существу это действительно так…» В. Перцов «Товарищ Семичастный прав… Пастернак не только вымышленная в художественном отношении фигура, но это и подлая фигура… Пусть туда уезжает… надо просить, чтобы он не попал в предстоящую перепись населения». А. Софронов: «…я слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака быть не может… Вон из нашей страны». Л. Ошанин: «…не надо нам такого человека, такого члена ССП. Не надо нам такого советского гражданина». К. Зелинский: «Это человек, который держит нож за пазухой… Враг, причем очень опасный, извилистый, очень тонкий враг… Иди и получай свои 30 сребреников! Ты нам сегодня здесь не нужен». А. Безыменский: «Решение, которое принято об исключении из Союза, правильно, но это решение должно быть дополнено. Русский народ правильно говорит: “Дурную траву вон с поля”… Его уход от нашей среды освежил бы воздух». В. Солоухин: «…поскольку он является эмигрантом внутренним, то не стоит ли ему стать эмигрантом на самом деле». И все в таком духе… Только в выступлении Валерии Герасимовой не было ни слова об исключении и изгнании.
Выступление С. С. Смирнова заняло одиннадцать страниц отчета, выступления других писателей от двух до пяти страниц. Выступление Слуцкого заняло 18 строк (!). «Гнев» Слуцкого обрушился не на казнимого поэта, а на «господ шведских академиков». Приведем выступление Слуцкого полностью.
«Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература? За год до смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора “Анны Карениной”. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого ищет поддержки!
Все, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».
В очень коротком выступлении Слуцкого (самом коротком из всех прозвучавших на собрании) нет ни единого слова об исключении Пастернака из Союза писателей, нет требований изгнать Пастернака из страны. Начисто лишено выступление Слуцкого и отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Бориса Пастернака. Он не говорил о поэте, хотя его отношение к Пастернаку-поэту к тому времени изменилось по сравнению с его ранними взглядами. Приводимые на этот счет в воспоминаниях Давида Самойлова резкие высказывания Слуцкого должны быть отнесены, с одной стороны, на счет нервного напряжения, в котором находился Слуцкий, споря со своим другом о Пастернаке после выступления, с другой - с идейной, идеологической позицией самого Самойлова. Вот что писал Давид Самойлов: «Слуцкий тогда составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов - № 1… В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов - явление поважнее и поэт поталантливее. Субординация подвела. «История с “Доктором Живаго” и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и Мартынова ясного ответа - встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власть и повредить ренессансу, либо защищать ренессанс…
Свой ренессанс оказался ближе к телу» .
Самойлов далее вспоминает, что ему «тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас… Выступления официальных радикалов (Слуцкий, Мартынов) оказались неожиданными и показались непростительными. Объективно они не так виноваты, как это кажется. Люди - схемы, несколько отличающейся от официальной, но тем не менее - люди схемы, они в своей расстановке сил современной литературы, в ее субординационных реестрах не нашли места для Пастернака и Ахматовой. А намерения у них были самые лучшие. Пастернак и Ахматова казались вчерашним днем литературы. Ренессанс сулил будущее. Стоило отказаться от прошлого во имя будущего. Нужно было “не пугать власти” радикализмом, а искать примирительных позиций, не размежевываться, а объединяться во имя спасения нового ренессанса. Идея эта жалкая, многократно использованная всеми видами конформистов и всегда приводившая литературу к потере нравственного авторитета и к новым зажимам».
Отношение к выступлению Бориса Слуцкого занимает видное место в воспоминаниях о нем. Большинство простило его, но никто не забыл. Когда собиралась книга воспоминаний о Слуцком, составителя упрекали за то, что в книге излишне много «этого». Но составитель бессилен «вырубить топором то, что написано пером», как бы ни был ему близок и дорог Слуцкий.
«Из всей биографии Слуцкого, - пишет Алексей Симонов, - в благодарной памяти современников больше всего запечатлелся факт его участия в знаменитом “толковище” по осуждению Пастернака…
Почему всем забыли, а ему - не забыли?
Говорят, мы живем в жестокий век. Лично я не согласен. Не знаю, как век целиком, а вторая его половина - о которой я могу судить как участник, - начинающаяся со смерти Сталина, представляется мне периодом всепрощения со все уменьшающимся расстоянием между преступлением и отсутствием наказания… Возвращаясь к Слуцкому, тем я и объясняю феномен избирательности нашей памяти по отношению к нему, что он испытывал муки совести там, где остальные давно и безнадежно себя простили…
Если есть разгадка “феномена” Слуцкого, то она лежит… в редко цитируемой строфе:
И если в прах рассыпалась скала, вину и на себя я принимаю» .
Приведем еще несколько наиболее значимых воспоминаний.
Семен Липкин: «Через несколько дней после выступления Слуцкий ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычное бесстрастное, командирское лицо налилось краской… я не был расположен к добродушной беседе:
Боря, вы понимаете, что никакое собрание не может исключить из русской литературы великого поэта. Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.
Слуцкий беспомощно возразил:
Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.
А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?
Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете.
… Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать.
… Мы встретились после похорон Пастернака. Слуцкий нервно стал расспрашивать меня о похоронах… Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль».
Давид Самойлов: «Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался. После отвратительного собрания… Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.
Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился.
Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко и Межирова, которые никогда не были выше его нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего вспоминают Слуцкого, совсем не поминая Мартынова и вскользь Смирнова?
Со Слуцкого спрос больший».
Нина Королева: «Конечно, нам было жаль, что Слуцкий, как и Леонид Мартынов, выступил с осуждением Пастернака, но мы ведь не знали, как и почему это произошло, насколько в этом была его добрая воля… За дорогого поэта было больно».
Д. Шраер-Петров: «Скандально обвиняют теперь друг друга писатели в предательстве Пастернака. Как найти разницу между тем, кто голосовал против опального поэта, требовал его распятия или заперся в туалете во время прений? Я предпочитал не верить. Такой человек не мог!»
Соломон Апт: «Кто хоть сколько-нибудь знал Слуцкого, тот не сомневается, что он мучился своей виной безысходно и, в отличие от некоторых других тогдашних ораторов, не успокаивал себя впоследствии ссылкой на то, что такое уж, мол, время было такое».
Владимир Огнев: «Тогда я был поражен неожиданностью поступка Бориса. Теперь я жалею Слуцкого и смущен эффектной жестокостью Евтушенко, подавшего на моих глазах “тридцать сребреников” - две пятнашки за его выступление против Пастернака».
Евгений Евтушенко: «Он сам о себе пророчески написал: “Ангельским, а не автомобильным сшибло, видимо, меня крылом”. Человек этически безукоризненный, он допустил, насколько я знаю, только одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его.
Мало ли людей совершают ошибки, а вот мучаются далеко не все. Уровень мук совести - это уровень самой совести. Ошибка, мучившая его, состояла в том, что однажды он выступил против Пастернака. Слуцкий сполна расплатился за это, - но не только своими муками, а не совершением других подобных ошибок. Я, воспитанный и его поэзией, и им самим, столько раз пригретый, накормленный, снабженный деньгами, которые у него всегда находились для других, оказался по-мальчишески жесток к нему; и на некоторое время наша, почти ежедневная, дружба прервалась. Я забыл о том, что он смертен.
Прав ли был Слуцкий, когда он писал: “Грехи прощают за стихи. Грехи большие - за стихи большие”, я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: “Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь”, пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения».
Галина Медведева: «…трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв… За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью…»
Несмотря на отказ от премии, Пастернак, по-разному оцененный в обществе и литературных кругах, вел себя мужественно и удивительно спокойно. По свидетельству близких, Борис Леонидович в самые тягостные и мрачные октябрьские дни 1958 года работал за столом, переводил «Марию Стюарт». Но «эпопея» не могла не отразиться на здоровье. Менее чем через два года после травли и вынужденного отказа от премии, 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак скончался. Ему было семьдесят лет. Он уходил из жизни так же мужественно, как и жил. Похороны Пастернака оказались первой публичной демонстрацией набиравшей силу демократической литературы.
Слуцкий в годы, последовавшие после 1958-го, думал о московском писательском собрании и о своем выступлении, писал стихи, которые становятся более понятны, коль скоро они воспринимаются на фоне пастернаковской истории.
Бьют себя мечами короткими, проявляя покорность судьбе, не прощают, что были робкими, никому. Даже себе.
Где-то струсил. И этот случай, как его там ни назови, солью самою злой, колючей оседает в моей крови.
Солит мысли мои и поступки, вместе, рядом ест и пьет, и подрагивает, и постукивает, и покоя мне не дает.
Жизнь, хотя и окрашенная мрачными воспоминаниями, продолжалась. «Он освобождался, он выжигал в себе раба предвзятых истин, кабинетных схем, бездушных теорий. В его творчестве конца 60–70-х годов нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо идеологического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями. “Политическая трескотня не доходит до меня”, - писал теперь один из самых политических русских поэтов. От нервного пулеметного треска политики он уходил к спокойному и чистому голосу правды - и она откликалась в нем строками прекрасных стихов» (Ю. Болдырев).
Осенью 1958 года Борис Леонидович Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе во многом благодаря «Доктору Живаго». В одно мгновение этот роман в Советском Союзе посчитали «клеветническим» и порочащим достоинство Октябрьской революции. На Пастернака оказывали давление по всем фронтам, из-за чего писатель был вынужден отказаться от премии.
Роковой октябрь
Бориса Пастернака часто называют Гамлетом XX века, ведь он прожил удивительную жизнь. Писатель успел многое повидать на своем веку: и революции, и мировые войны, и репрессии. Пастернак неоднократно вступал в конфликт с литературными и политическими кругами СССР. К примеру, он бунтовал против социалистического реализма — художественного движения, получившего особое и широкое распространение в Советском Союзе. К тому же, Пастернака неоднократно и открыто критиковали за чрезмерную индивидуальность и непонятливость его творчества. Однако мало что сравнится с тем, с чем ему пришлось после 23 октября 1958 года.
Известно, что одну из престижнейших литературных наград ему вручили за произведение «Доктор Живаго» с формулировкой «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа». До этого на Нобелевскую премию среди русских писателей номинировался только Иван Бунин. А кандидатуру Бориса Пастернака в 1958 году предложил сам французский писатель Альбер Камю. К слову, Пастернак мог выиграть премию с 1946 по 1950 года: он ежегодно числился в кандидатах в это время. Получив телеграмму от секретаря Нобелевского комитета Андерса Эстерлинга, Пастернак ответил в Стокгольм такими словами: «Благодарен, рад, горд, смущен». Многие друзья писателя и деятели культуры уже начали поздравлять Пастернака. Однако весь писательский коллектив крайне негативно отнесся к этой награде.
Чуковские в день, когда Пастернаку вручили Нобелевскую премию
Начало травли
Как только до советских властей дошли вести о номинации, то на Пастернака сразу начали оказывать давление. Пришедший на следующее утро Константин Федин, один из самых деятельных членов Союза писателей, потребовал демонстративно отречься от премии. Однако Борис Пастернак, вступив в разговор на повышенных тонах, отказал ему. Тогда писателю пригрозили исключением из Союза писателей и другими санкциями, которые могли поставить крест на его будущем.
Нобелевскую премию «дополучил» сын Пастернака 30 лет спустя
Но в письме Союзу он писал: «Я знаю, что под давлением общественности будет поставлен вопрос о моем исключении из Союза писателей. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что вам угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз». С этого момента и началась общественная травля писателя. На него посыпались всевозможные угрозы, оскорбления и анафемы всей советской печати.
«Доктор Живаго» назвали «клеветническим» романом
Не читал, но осуждаю
Вместе с этим западная пресса активно поддерживала Пастернака, когда как любому было не прочь поупражнялся в оскорблениях в адрес поэта. Многие видели в премии настоящее предательство. Дело в том, что Пастернак после неудачной издания романа в своей стране решился передать его рукопись Фельтринелли — представителю итальянского издательства. Вскоре «Доктор Живаго» был переведен на итальянский и стал, как сейчас говорится, бестселлером. Роман был признан антисоветским, так как в нем разоблачались достижения Октябрьской революции 1917 года, как говорили его критики. Уже в день присуждения премии, 23 октября 1958 года, по инициативе М. А. Суслова Президиум ЦК КПСС принял постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», признавшее решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну.

На обложке одного из американских журналов 1958 года
Эстафету подхватила «Литературная газета», которая с особым пристрастием взялась за травлю писателя. 25 октября 1958 года в ней писалось: «Пастернак получил «тридцать серебреников», для чего использована Нобелевская премия. Он награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду, доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение». Вышедший в этот день номер газеты был целиком «посвящен» Пастернаку и его роману. Также один из читателей писал в одной разоблачительной заметке: «То, что сделал Пастернак, — оклеветал народ, среди которого он сам живет, передал свою фальшивку врагам нашим, — мог сделать только откровенный враг. У Пастернака и Живаго одно и то же лицо. Лицо циника, предателя. Пастернак — Живаго сам навлек на себя гнев и презрение народа».
Из-за Нобелевской премии Пастернака окрестили «воскресшим Иудой»
Именно тогда появилось известное выражение «Не читал, но осуждаю!». Поэту грозили уголовным преследованием по статье «Измена Родине» Наконец Пастернак не выдержал и отправил в Стокгольм 29 октября телеграмму следующего содержания: «В силу того значения, которое получило присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Но и это не облегчило его положение. Советские писатели обращались к правительству с просьбой лишить поэта гражданства и выслать за границу, что больше всего боялся сам Пастернак. В итоге его роман «Доктор Живаго» запретили, а самого поэта исключили из Союза писателей.

Писатель остался практически в одиночестве
Незаконченная история
Вскоре после вынужденного отказа на измученного поэта вновь обрушился шквал критики. А поводом стало стихотворение «Нобелевская премия», написанное как автограф английскому корреспонденту Daily Mail. Оно попало на страницы газеты, что вновь не понравилось советским властям. Тем не менее, история Нобелевской премии не осталась незаконченной. Тридцать лет спустя ее «дополучил» сын Пастернака Евгений в знак уважения таланта писателя. Тогда, а это было время гласности и перестройки СССР, «Доктор Живаго» был опубликован, и советские граждане смогли ознакомиться с текстом запрещенного произведения.