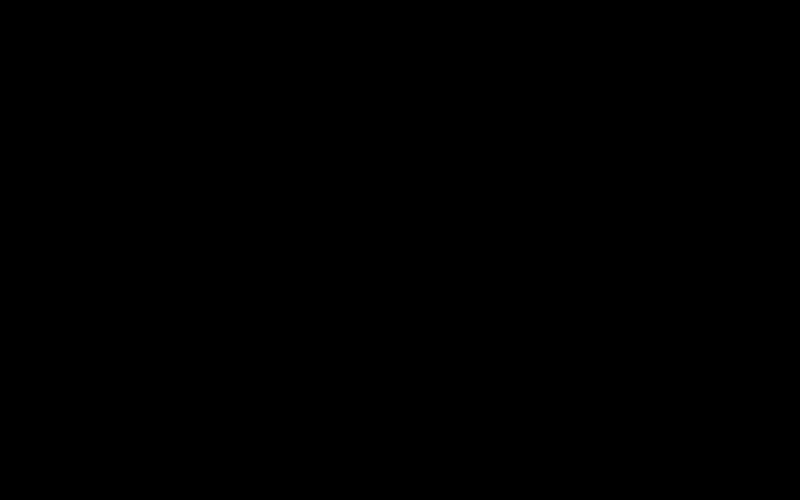Журнал Печорина
Тамань
Рассказ идет от лица Печорина. Он прибывает в Тамань в позднее время. Поскольку казенной квартиры для него не приготовили, главный герой селится в деревенском домике у моря, где без родителей живет слепой ребенок. Ночью Печорин видит, как мальчик с узелком не спеша приближается к морю. Он начинает за ним наблюдать. Вдруг к ребенку подходит молодая девушка и говорит, что Янко сегодня не придет. Но, парень ей не верит, так как считает Янко смелым и решительным. Через непродолжительное время к берегу приплывает нагруженное суденышко с человеком, на котором надета баранья шапка. Главный герой возвращается в дом, где встречает девушку, которая разговаривала на берегу со слепым мальчиком. Печорин интересуется ее именем, но она не отвечает ему на вопрос, после чего главный герой начинает угрожать ей тем, что расскажет коменданту, что девушка ходила в ночное время по берегу.
Как-то раз девушка пришла в дом, где жил Печорин и поцеловала его, после чего назначила свидание этой ночью на берегу. Главный герой вооружается пистолетом и идет на встречу с девушкой. Он встречает ее на берегу, и они вместе идут к лодке. После того, как они отплывают на какое-то расстояние, девушка выбрасывает пистолет в воду и старается сбросить туда же Печорина, но происходит все наоборот. Молодой человек сбрасывает девушку за борт. Она удачно доплывает до берега, а через время туда приходит мальчик вместе с Янко. Девушка садится с ним в лодку, и они уплывают, оставив слепого на берегу. Парень плачет, а до Печорина доходит, что он встретился с людьми, промышляющими контрабандой. Когда главный герой зашел в дом, то нашел в мешке мальчика свои вещи, среди которых была шкатулка, шашка с серебряной оправой и кинжал. Утром Печорин уезжает в Геленджик.
Княжна Мери
Печорин прибывает в Пятигорск, где наблюдает множество скучающих особей, среди которых есть отцы семейств, барышни и целый ряд других персонажей. Подойдя к источнику, главный герой увидел своего старого знакомого Грушницкого, который описан, как храбрец и самолюбивый франт. В свое время два молодых человека были знакомы по службе в одном отряде, и вот теперь Грушницкий сияет в окружении самого обыденного общества. Его новые знакомые — довольно скучные и примитивные люди, среди которых можно разве что выделить княгиню Лиговскую и ее дочь Мери. Когда Грушницкий рассказывал о них Печорину, мама с дочерью проходили мимо. Главный герой про себя отметил, что его старый знакомый симпатизирует молодой девушке. У Мери были прекрасные удлиненные ресницы, «бархатные глаза» и, вообще, ее можно было назвать красавицей. Кроме того, Печорин отметил ее отличный вкус в одежде.
Через некоторое время к главному герою в гости приехал доктор Вернер, человек с материалистическим взглядом на жизнь, но с душой лирика. Как выяснилось по ходу повествования, у доктора одна нога была несколько короче другой, а в целом это был мужчина небольшого роста с крупной головой. Между Печориным и Вернером существует какая-то взаимосвязь на грани подсознания, так как они понимают друг друга с полуслова. Доктор рассказал своему товарищу о Мери, которая думает, что Грушницкий оказался в солдатах в результате дуэли. Этот молодой человек вызывает живой интерес у княжны. У ее матери в данный момент гостит родственница, которая оказывается бывшей дамой сердца Печорина по имени Вера.
Главный герой встречает Мери с матушкой в окружении другой молодежи и рассказывает офицерам, которые стоят поблизости, смешные истории, после чего вся находящаяся рядом публика подходит к рассказчику. Мери немного злится на Печорина, так как он лишил ее общества кавалеров. Во время своего дальнейшего пребывания в этом городе главный герой ведет себя подобным образом. Он, то покупает красивый ковер, который понравился княжне, то делает еще какие-то опрометчивые и не поддающиеся объяснению поступки. В это время Грушницкий пытается найти подход к Мери и мечтает, чтобы она его заметила. Печорин объясняет своему знакомому, что это лишено смысла, так Мери из тех девушек, что могут вскружить мужчине голову, а потом выйти замуж за богача. Но, Грушницкий не хочет его слушать и покупает себе кольцо, на котором выгравирует имя своей возлюбленной.
Проходит некоторое время, и Печорин случайно встречается с Верой, которая уже успела два раза выйти замуж и сейчас живет с состоятельным мужчиной значительно старше ее. Через мужа она находится в родственных связях с княжной Мери. Печорин принимает решение оказать княжне знаки мужского внимания. Делает он это для того, чтобы чаще видеться со своей бывшей возлюбленной в доме Лиговских. Однажды в горах он встречает Грушницкого и Мери. Именно в этот момент главный герой принимает решение влюбить в себя княжну.
Как раз случается подходящая ситуация в виде бала, на котором Печорин приглашает Мери на танец, затем уводит ее от пьяного посетителя и извиняется за свое настойчивое поведение. Девушка становится мягче по отношению к своему новому ухажеру. Прибыв в гости к Мери Печорин уделяет много внимания Вере, на это княжна сильно обижается. Тогда в отместку главному герою она начинает любезничать с Грушницким, но он ей уже давно перестал быть интересен. Печорин чувствует что «рыбка попалась на крючок» и решает употребить все влияние на Мери в своих интересах, а потом цинично ее бросить.

Грушницкому возвращают офицерский чин, и он решает покорить сердце княжны своей новой формой. Во время прогулки с Мери Печорин ей жалуется, что люди часто наводят на него напраслину и называют его бездушным. Княжна рассказывает своей новой родственнице Вере, что любит Печорина. Вера ее ревнует к главному герою. Печорин встречается с ней и обещает последовать за Верой в Кисловодск, куда она собирается уехать со своим супругом. Грушницкий в новой форме приходит к княжне, но это не дает решительно никакого результата. После этого с его подачи по городу разлетаются слухи о скорой женитьбе Мери и Печорина, который в это время уже находится в Кисловодске, где ждет свидания с Верой. Следом за ним отправляется и Мери со своей матерью. Во время поездки с княжной случается обморок, и она оказывается в объятиях Печорина, который целует ее в губы. Мери признается ему в любви, но судя по реакции главного героя, на него эти слова никак не действуют. Главный герой продолжает вести себя расчетливо и цинично. Грушницкий собирается вызвать Печорина на дуэль, в результате все закончится тем, что секундант даст дуэлянтам незаряженные пистолеты.
Мери еще раз открывает свои чувства главному герою, но тот отказывается от нее и говорит, что не готов к любви, так как ему предсказано гадалкой, умереть от рук своей супруги.
 В город прибывает фокусник и все персонажи собираются на его представлении. Печорин проводит ночь с Верой, о чем узнает Грушницкий и на следующий день об этом распространяются слухи по городу. В этот раз Печорин вызывает обидчика на дуэль, а своим секундантом просит стать доктора Вернера, по предположениям которого заряженным будет только пистолет Грушницкого.
В город прибывает фокусник и все персонажи собираются на его представлении. Печорин проводит ночь с Верой, о чем узнает Грушницкий и на следующий день об этом распространяются слухи по городу. В этот раз Печорин вызывает обидчика на дуэль, а своим секундантом просит стать доктора Вернера, по предположениям которого заряженным будет только пистолет Грушницкого.
Перед днем дуэли Печорина одолевают мысли о смерти. Ему наскучила жизнь. Она его совсем не радует. Печорин считает, что его никто не понимает. На утро он говорит своему секунданту, что не страшится смерти и готов принять ее достойно. Местом дуэли решили выбрать скалу. Это связано с тем, что когда убитый упадет с нее ни у кого не возникнет мысли о дуэли. По жребию первым должен стрелять Грушницкий. Печорин почему-то уверен, что соперник не убьет его. Так и происходит, главный герой оказывается только слегка раненным. Он предлагает Грушницкому извиниться и прекратить дуэль, но тот в истерике кричит, что ненавидит Печорина. В результате пуля сражает его наповал.
Вернувшись домой, главный герой обнаруживает у себя записку от Веры, где женщина пишет, что сообщила своему супругу об отношениях с Печориным и вынуждена покинуть любимого навсегда. Молодой человек бросается за ними в погоню, но загоняет коня и не настигает цели. В расстроенных чувствах он возвращается в Кисловодск. На следующий день Печорину сообщают о его переводе на новое место службы. Он приходит к Мери, чтобы попрощаться. Они обмениваются злыми «комплиментами» и расстаются.
Фаталист
В одной из станиц после окончания игры в карты офицеры начинают размышлять о том, что судьба каждого человека предопределена. Поручик Вулич предлагает проверить, можно ли заранее узнать о своей смерти. Печорин затевает с ним спор и говорит, что это невозможно. Вулич делает попытку самоубийства на глазах у присутствующих, но пистолет дает осечку. После выстрела в воздух все понимают, что пистолет был заряжен. Главный герой предрекает Вуличу скорую смерть и уходит восвояси. По пути к месту ночлега Печорин наблюдает мертвую свинью, которая погибла от сабли казака, которого уже ищут его приятели. После чего главный герой узнает, что Вулич погиб от рук этого казака, а теперь тот скрывается в доме на окраине и не хочет оттуда выходить. Печорин пытается повторить смертельный эксперимент Вулича и захватить его убийцу. Есаул начал свой разговор с казаком в качестве отвлекающего маневра, а главный герой незаметно пробрался в дом и захватил убийцу Вулича. После возвращения в крепость, Печорин рассказал эту историю Максиму Максимычу, а тот сделал вывод, что такая у Вулича судьба.

Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное обшество.
* * *
Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.
Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.
Наконец вот и колодец… На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные.
Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.
Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:
– Печорин! давно ли здесь?
Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.
Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..
Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать. Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут, он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас! Поймете ли вы меня?» – и так далее.
Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайной между им и небесами.
Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!
Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.
– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он, вздохнув, – пьющие утром воду – вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру – несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.
В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое платье gris de perles1
Серо-жемчужного цвета (фр.).
Легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи.
Ботинки couleur puce2
Красновато-бурого цвета (фр.).
Стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.
– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий, – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.
– Однако ты уж знаешь ее имя?
– Да, я случайно слышал, – отвечал он, покраснев, – признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?
– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь, – а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?
– О! – это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость – точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа? la moujik3
По-мужицки (фр.).
– Ты озлоблен против всего рода человеческого.
– И есть за что…
– О! право?
В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:
– Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mepriser car autrement la vie serait une farce trop degoutante4
Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом (фр.).
Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.
– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят… Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.
– Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.
– Mon cher, – отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, – je meprise les femmes pour ne pas les aimer car autrement la vie serait un melodrame trop ridicule5
Милый мой, я презираю женщин, чтобы не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой (фр.).
Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором.
Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.
Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бежняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.
Княжна Мери видела все это лучше меня.
Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный – даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара… Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.
Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие.
– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку, – это просто ангел!
– Отчего? – спросил я с видом чистейшего простодушия.
– Разве ты не видал?
– Нет, видел: она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу…
– И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..
Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство – было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно ненакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самлюбие), который бы не был этим поражен неприятно.
Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..
Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.
Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом… Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, – больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.
Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной: оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.
Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С… среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.
– Что до меня касается, то я убежден только в одном… – сказал доктор.
– В чем это? – спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.
– В том, – отвечал он, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.
– Я богаче вас, сказал я, – у меня, кроме этого, есть еще убеждение – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.
Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.
Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, – и мы оба замолчали.
– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово – для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул…
Он отвечал подумавши:
– В вашей галиматье, однако ж, есть идея.
– Две! – отвечал я.
– Скажите мне одну, я вам скажу другую.
– Хорошо, начинайте! – сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.
– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.
– Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.
– Теперь другая…
– Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?
– Вы очень уверены, что это княгиня… а не княжна?..
– Совершенно убежден.
– Почему?
– Потому что княжна спрашивала об Грушницком.
– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль.
– Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении…
– Разумеется.
– Завязка есть! – закричал я в восхищении. – Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.
– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой…
– Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете… я сказал ваше имя… Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума… Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания… Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе… Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.
– Достойный друг! – сказал я, протянув ему руку.
Доктор пожал ее с чувством и продолжал:
– Если хотите, я вас представлю…
– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками, – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную…
– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..
– Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, – продолжал я после минуты молчания, – я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?
– Во-первых, княгиня – женщина сорока пяти лет, – отвечал Вернер, – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь Бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.
О том, что произошло с Печориным после отбытия из Тамани, мы узнаём из повести «Княжна Мери» (второй фрагмент «Журнала Печорина»). В карательной экспедиции против причерноморских горцев он шапочно знакомится с юнкером Грушницким, провинциальным юношей, вступившим в военную службу из романтических побуждений: зиму проводит в С. (Ставрополе), где коротко сходится с доктором Вернером, умником и скептиком. А в мае и Печорин, и Вернер, и Грушницкий, раненный в ногу и награждённый - за храбрость - Георгиевским крестом, уже в Пятигорске.
Пятигорск, как и соседний Кисловодск, славится целебными водами, май - начало сезона, и всё «водяное общество» - в сборе. Общество в основном мужское, офицерское - как-никак, а кругом война, дамы (а тем паче нестарые и хорошенькие) - наперечёт. Самая же интересная из «курортниц», по общему приговору, - княжна Мери, единственная дочь богатой московской барыни. Княгиня Лиговская - англоманка, поэтому её Мери знает английский и читает Байрона в подлиннике.
Несмотря на учёность, Мери непосредственна и по-московски демократична. Мигом заметив, что ранение мешает Грушницкому наклоняться, она поднимает обронённый юнкером стакан с кислой - лечебной - водой. Печорин ловит себя на мысли, что завидует Грушницкому. И не потому, что московская барышня так уж ему понравилась - хотя, как знаток, вполне оценил и небанальную её внешность, и стильную манеру одеваться. А потому, что считает: все лучшее на этом свете должно принадлежать ему. Короче, от нечего делать он начинает кампанию, цель которой - завоевать сердце Мери и тем самым уязвить самолюбие заносчивого и не по чину самовлюблённого Георгиевского кавалера.
И то и другое удаётся вполне. Сцена у «кислого» источника датирована 11 мая, а через одиннадцать дней в кисловодской «ресторации» на публичном балу он уже танцует с Лиговской-младшей входящий в моду вальс. Пользуясь свободой курортных нравов, драгунский капитан, подвыпивший и вульгарный, пытается пригласить княжну на мазурку. Мери шокирована, Печорин ловко отшивает мужлана и получает от благодарной матери - ещё бы! спас дочь от обморока на балу! - приглашение бывать в её доме запросто.
Обстоятельства меж тем усложняются. На воды приезжает дальняя родственница княгини, в которой Печорин узнаёт «свою Веру», женщину, которую когда-то истинно любил. Вера по-прежнему любит неверного своего любовника, но она замужем, и муж, богатый старик, неотступен, как тень: гостиная княгини - единственное место, где они могут видеться, не вызывая подозрений. За неимением подруг, Мери делится с кузиной (предусмотрительно снявшей соседний дом с общим дремучим садом) сердечными тайнами; Вера передаёт их Печорину - «она влюблена в тебя, бедняжка», - тот делает вид, что его это ничуть не занимает. Но женский опыт подсказывает Вере: милый друг не совсем равнодушен к обаянию прелестной москвички. Ревнуя, она берет с Григория Александровича слово, что он не женится на Мери. А в награду за жертву обещает верное (ночное, наедине, в своём будуаре) свидание.
Меню статьи:
«Княжна Мери» – повесть из цикла «Герой нашего времени», написанного Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 1838-1840 годах. Данный цикл считается одним из первых образцов психологического романа в классической русской литературе.
Предлагаем вашему вниманию поэму М.Ю. Лермонтова где описана судьба мальчика-сироты, взятого в плен и впоследствии ставшего беглым монахом.
История, рассказанная в повести, происходит на Кавказе и подаётся читателю в виде дневника её главного героя – офицера российской армии, скандального сердцееда Печорина.
11 мая
Главный герой приехал в Пятигорск, снял квартиру и отправился осмотреть окрестности и публику, которая прохаживалась по улицам курортного городка. Внезапно раздумья его прервал знакомый голос. То был его товарищ по службе юнкер Грушницкий. Он получил ранение в ногу и прибыл на воды на неделю раньше Печорина.
Юнкер поведал, что из интересных личностей в городе лишь княгиня Лиговская из Москвы с прелестной молодой дочерью, которую она называет на английский манер Мери. Но Грушницкий к ним не вхож, потому что, по его словам, солдатская шинель – печать отторжения.
В это время московские аристократки, одетые по последней моде, появились в поле зрения товарищей. Печорин отметил, что молодая княжна действительно очень хороша собой, а Грушницкий сильно смутился при виде знатных дам.
После этого рассказчик продолжил свою прогулку в одиночестве, но возвращаясь обратно, застал занимательную сцену у колодца с минеральной водой. Грушницкий обронил на песок стакан и никак не мог поднять его, потому что опирался на костыль, и тут из-под арки, обрамляющей вход в беседку выпорхнула княжна Мери Лиговская. Она пришла на помощь юнкеру, неимоверно при этом смутившись, и поспешно удалилась обратно к своей матушке. После этого дамы проследовали в свой особняк. А Печорин снова подоспел к Грушницкому, осознавая, что симпатия юной княжны к юнкеру вызывает у него чувство зависти.
13 мая
В гости к Печорину зашёл доктор Вернер. Рассказчик весьма тепло описывает своего приятеля. Они познакомились на каком-то званом вечере во время дискуссии метафизического направления, где прониклись взаимным уважением в процессе длительного спора. Позже они сблизились и стали часто общаться и проводить вместе время.
Предлагаем ознакомиться с проявившего себя как художник слова, обладатель великого дарования.
Грушницким интересовалась княжна Мери, предположив, что столь благородный молодой человек был разжалован в солдаты из-за дуэли. А княгиня же напротив интересовалась Печориным. Когда доктор назвал ей его фамилию, то женщина вспомнила, сколько шуму он в своё время наделал в Петербурге своими похождениями. Мери слушала эти истории с интересом. Так же доктор сообщил, что в доме княгини встретил какую-то их родственницу, чьё имя запамятовал. У этой дамы была родинка на щеке. Упоминание об этом заставило офицера почувствовать волнение.

Вечером Печорин встретил Лиговских, сидящих на лавке в окружении многих молодых людей. Он пристроился поодаль, остановил двоих офицеров, которые проходили мимо и стал веселить их своими анекдотами. Со временем на лавку Печорина переметнулась вся молодежь из окружения аристократок. Это вызвало немалое раздражение и досаду у княжны Мери.
16 мая
Печорин продолжал свою тактику мелкого пакостничества юной княжне. Девушка всё чаще бросала на него презрительные гневные взгляды. Грушницкий, же в свою очередь, безумно влюбился в юную Мери. Всячески искал с ней встречи и мечтал быть приглашённым в княжий дом.
Во время вечерней прогулки наш герой размышлял о женщине с родинкой на щеке, воспоминания о ней заставляли его сердце трепетать. Дойдя до грота, Печорин, как по волшебству, встретил там эту женщину. Оказывается, что он не ошибся в своих предчувствиях – это была знатная дама по имени Вера, с которой у рассказчика были отношения несколько лет назад. Вера рассказала Печорину, что с тех пор она вышла замуж во второй раз, для благополучия сына. Муж её – старый богатый человек, дальний родственник княгини Лиговской. Печорин обещал представиться Лиговским, чтобы встречаться у них с Верой. Так же женщина попросила его волочиться за княжной, чтобы отвлечь внимание от их отношений, которые имели все шансы возобновиться.
После разговоров и пылких объятий, Вера отправилась домой. Печорин, чтобы привести в порядок мысли, оседлал горячего скакуна и отправился в степь. На обратном пути он повстречал процессию молодых людей под предводительством Грушницкого и княжны Мери. Выскочив им наперерез, Печорин испугал княжну, на секунду она решила, что он дикарь-черкес. Грушницкий был очень недоволен этой встречей.
Вечером того же дня юнкер важно сообщил Печорину, что был в гостиной княгини, и что Мэри весьма нелестно отзывалась о Печорине. В ответ на что молодой офицер его уверил, что при желании уже следующим вечером он будет в доме аристократок, и даже начнёт волочиться за юной княжной. Грушницкий отнёсся к этому заявлению с недоверием.
22 мая
Зала ресторации превратилась в залу Благородного собрания. К девяти часам туда явилась вся знать, в том числе и княгиня с дочерью. Уже через несколько минут Печорин позвал Мери танцевать. Девушка вальсировала с офицером с едва скрываемым торжеством на лице. В процессе танца Печорин извинился перед княжной за то, что каким-то образом, даже не знакомясь, разгневал её. Мэри парировала, что ему едва ли выпадет шанс оправдаться, потому что он не бывает у них в гостях. И в тот момент, когда Печорин потерял всякую надежду протиснуться в гостиную Лиговских, ему представился случай изменить ситуацию.
К молодой княжне стал приставать очень пьяный офицер, очень нагло зазывая её на мазурку. Девушка была напугана и растеряна, на помощь ей никто не спешил. И тогда Печорин отделился от толпы и дал жёсткий отпор наглецу заставив его покинуть танцевальную залу. Мери обо всём рассказала матери. Та очень благодарила офицера за его поступок и пригласила в гости. А Печорин продолжал общаться с молодой княжной весь вечер, всячески намекая ей, что она ему уже давно нравится, а также упомянул, что один из её кавалеров, Грушницкий, вовсе не разжалован за дуэль, а просто носит юнкерское звание.
23 мая
На следующее утро Грушницкий горячо благодарил Печорина за спасение Мери на балу, куда он не был вхож. И отметил, что сегодня в разговоре с ним девушка была холодна, а глаза её тусклы. Он попросил Печорина понаблюдать за княжной вечером, когда они все вместе будут у неё в гостях.
По дороге в гостиную Лиговских Печорин увидел в окне Веру. Они обменялись быстрыми взглядами. Вскоре она тоже появилась у княгини, и их представили друг другу. Во время чаепития офицер пытался всячески понравится княгине: шутил, рассказывал анекдоты, заставляя благородную даму смеяться от души. Княжна Мери тоже готова была похохотать, но придерживалась выбранного томного образа.

После все перешли в комнату с фортепиано. Мери начала петь. Воспользовавшись моментом, Печорин отвёл в сторону Веру. Она сказала ему, что очень больна, но мысли её занимает не будущее, а лишь он один. Женщина попросила его видеться у Лиговских. Печорину не понравилась такая постановка вопроса, он хотел большего. Мери, меж тем, заметила, что Печорин не слушает её пение, и это её сильно разозлило. Княжна демонстративно удалилась и весь вечер общалась с Грушницким. Печорин, в свою очередь, вдоволь наболтался с Верой.
Выйдя на улицу, Грушницкий спросил, что Печорин думает о его перспективах с юной княжной, но тот лишь пожал плечами.
29 мая
Рассказчик чётко следовал своему плану по завоеванию сердца княжны Мери. Расчетливый опытный мужчина наблюдал, как реагирует на его поведение девушка. Кроме всего прочего, стало очевидно, что Грушницкий ей окончательно наскучил.
3 июня
Печорин долго размышлял о том, зачем он добивается любви молоденькой девочки, которую не хочет соблазнить и на которой никогда не женится. Его размышления прервал Грушницкий. Он пришёл, счастливый от того, что его произвели в офицеры. Печорин пытался ему сказать, что офицерские эполеты не помогут ему завоевать княжну, и что она морочит ему голову. Но влюблённый юноша не поверил этим словам.
Вечером того дня многочисленное общество отправилось к провалу, который считали кратером потухшего вулкана. Печорин помог Мери подняться на гору, и она не покидала его руку в продолжение целой прогулки. Мужчина весьма жёлчно отзывался об их общих знакомых, что немало удивило и напугало девушку. Тогда Печорин пустился в длительные разговоры о своём детстве и о том, почему он стал таким злым. В результате на глаза юной княжны навернулись слёзы жалости. Рассказчик рассудил, что женская жалость – верный путь к зарождающейся любви. Так же он заметил, что поведение Мери весьма предсказуемо, и ему становится от этого скучно.
4 июня
Вера стала изводить Печорина своей ревностью. Он всячески отрицал, что питает чувства к молодой княжне. Тогда Вера упросила его переехать вслед за нею в Кисловодск и снять квартиру неподалёку. Мужчина обещал так и сделать. Лиговские тоже должны били со временем туда переехать.
Грушницкий сообщил Печорину, что завтра будет бал, на котором он намерен весь вечер танцевать с Мери в своей новой офицерской шинели.
При встрече с юной княжной Печорин пригласил её заранее на мазурку и намекнул, что её ждёт приятный сюрприз.
Вечером в гостях у княгини наш герой растрогал Веру тем, что с нежностью пересказал собравшимся историю их встречи и любви. Он изменил имена и некоторые события, но женщина конечно же узнала себя в героине его рассказов. Её настроение от этого улучшилось, и она была весела и активна весь вечер.
5 июня
Грушницкий явился к Печорину за полчаса до бала. Он был разодет в новый пехотный мундир и очень напыщен. Вскоре он отправился поджидать княжну у подъезда к залу.
Печорин явился позже и нашёл Мери, которая откровенно скучала в обществе Грушницкого. Молодой человек весь вечер преследовал княжну. Печорин отметил, что к средине вечера она его уже откровенно ненавидела и вела себя с ним очень резко. В то же время девушка выказывала свою благосклонность нашему герою, хотя потанцевать или поговорить им так и не удалось.
Тем не менее Печорин проводил Мери до кареты и украдкой поцеловал её руку, что тоже было частью его хитроумного плана.
Вернувшись в зал к ужину, наш герой заметил, что против него зреет заговор во главе с Грушницким.
6 июня
Вера уехала в Кисловодск с мужем. В её прощальном взгляде Печорин прочитал упрёк. Он размышлял о том, что, возможно, чувство ревности заставит женщину дать согласие на встречи наедине. Княжна Мери в тот день не показывалась, сказавшись больной. Грушницкий со своей новообразовавшейся шайкой бродил по городу, и вид у него был весьма растрёпанный.
Печорин с удивлением отметил, что ему не хватает общества княжны Мэри, с которой ему не удалось увидеться, но не допускал и мысли, что это может быть влюблённость.
7 июня
Печорин узнал от своего друга Вернера, что по городу ширятся слухи о том, что он собирается женится на Мери. Мужчина сразу смекнул, что источником слухов является Грушницкий. Доктора же он уверил, что ни о какой свадьбе речь не идёт. На следующе утро он отправился в Кисловодск.
10 июня
Рассказчик сообщает, что он уже три дня в Кисловодске и регулярно видит Веру у источника. Она посвежела и набралась сил.
Один день назад в Кисловодск прибыл и Грушницкий со своей шайкой. Они постоянно бушевали в трактире. А Грушницкий стал вести себя очень воинственно по отношению к окружающим.
11 июня
В Кисловодск наконец-то прибыли Лиговские. Печорин встретил их с замиранием сердца и снова задался мыслью, не влюблён ли он в юную Мери. В тот день он обедал у них и заметил, что княгиня с ним очень нежна и всё время посматривает на дочь. Мужчине это показалось не очень хорошим знаком. Зато он увидел, что добился чего хотел – Вера в своей ревности практически доведена до отчаяния.
12 июня
Вечер был обилен происшествиями. Многочисленная кавалькада отправилась смотреть на закат солнца в горах. В числе компании были Лиговские и Печорин. Мужчина весь вечер провёл подле княжны. На обратном пути он помогал её лошади перебраться через горную реку, при взгляде на течение у Мери закружилась голова, тогда офицер подхватил её за талию и пользуясь случаем поцеловал в щёчку.
На другом берегу реки взволнованная девушка придержала свою лошадь, чтобы поговорить с Печориным. Но он упорно молчал и не желал объясняться. Тогда заговорила Мери: «…вы хотите, чтоб я первая сказала, что я вас люблю? Хотите ли этого?» Но расчётливый обольститель только пожал плечами и сказал: «Зачем?»
Эти слова вывели бедняжку из душевного равновесия, она ускакала вперёд и всю дорогу домой вела себя наиграно весело.
Печорин признался себе, что ему доставляет удовольствие мысль, что она проведёт ночь без сна и будет плакать. Меж тем он был взволнован, и проводив дам до дверей дома княгини, поскакал в горы развеять мысли.
В одном из домов над обрывом Печорин услышал шум армейской пирушки. Он подкрался к открытому окну и стал слушать о чём разговор. Говорили о нём. Офицер, от которого некогда Печорин защитил Мери на балу, кричал громче всех. Он предлагал публике проучить Печорина, обзывал его трусом. Результатом дискуссии стал план, в котором Грушницкий должен был вызвать Печорина на дуэль, но не зарядить пистоли. Пьяный офицер уверял, что Печорин просто струсит. Очередь была за Грушницким. Наш рассказчик тайно надеялся, что тот откажется от подлого плана. Но после секунды колебаний тот всё-таки согласился.
Печорин вернулся домой в крайнем волнении и не спал всю ночь. Утром вид его был очень болезненный, об этом ему сказала Мери у колодца. Далее она снова пыталась поговорить с ним о чувствах, просила прекратить мучить её и честно признаться, что у него на уме. На что мужчина ей отвечал: «Я вам скажу всю истину, не буду оправдываться, ни объяснять своих поступков; я вас не люблю…»
Губы девушки побледнели, а Печорин лишь пожал плечами и ушёл.
14 июня
Рассказчик сообщает о том, что у него с детства сформировалось отвращение к женитьбе. Его матери гадалка предсказала смерть сына от злой жены. Это так поразило мальчика, что он стал отрицать брак, как таковой. Любая женщина, мечтающая затянуть его под венец, становилась ему неинтересна.
15 июня
В город приехал фокусник и должен был вечером давать представление. Муж Веры уехал в Пятигорск, и она, пользуясь случаем, пригласила Печорина к себе. Всем своим слугам и слугам Лиговских, с которыми они делили один особняк, Вера раздала билеты на выступление. Печорин воспользовался возможностью и пришёл на свидание. По дороге к Вере он чувствовал, что за ним следят. Началось долгожданное свидание со сцен ревности и упрёков. Но мужчине удалось убедить любимую, что он не собирается жениться на княжне.
Выходить из спальни Веры Печорину пришлось через окно, связав две шали. Путь его лежал через балкон спальни княжны. Мужчина с любопытством заглянул за шторку и увидел печальную отрешённую девушку, которая пыталась сосредоточиться на книге.
Едва коснувшись ногами земли, наш герой попал в засаду, устроенную Грушницким и его другом. Они пытались схватить и избить Печорина с криками: «…будешь у меня к княжнам ходить ночью!..» Печорину удалось отбиться и убежать домой. Офицеры же подняли на уши весь город, утверждая, что по улицам бегает грабитель черкес.
16 июня
Следующим утром в городе все только и говорили о черкесском набеге. Муж Веры пригласил Печорина на завтрак, он был крайне взволнован тем, что жена его была в прошлую ночь одна и подвергалась опасности. Придя в ресторацию, мужчины уселись за столик. За тонкой перегородкой сидела компания Грушницкого. Молодой человек громко рассказывал собравшимся, что на самом деле никаких черкесов не было в Кисловодске, просто княжна принимала у себя тайного посетителя. После небольшой паузы Грушницкий сообщил, что этим мужчиной был Печорин. Наш герой в этот момент неожиданно появился прямо перед носом бывшего товарища. Он обвинил Грушницкого в клевете и уже спустя минуту договаривался с его секундантом о будущей дуэли. Муж Веры был немало тронут таким смелым поведением Печорина и от души пожал его руку.
Печорин немедля отправился к Вернеру и как на духу признался ему во всех своих отношениях, а также рассказал о подслушанном на днях разговоре. Доктор согласился быть его секундантом и отправился к Грушницкому на переговоры. Вернувшись обратно, он высказал догадку, что против Печорина действительно существует заговор, но, скорее всего, теперь друзья Грушницкого хотят зарядить только один пистолет боевыми патронами, что больше смахивает на убийство. Наш герой отказал доктору в намерении признаться соперникам, что они разгадали их подлые планы. Он сказал, что сам со всем разберётся.
Печорин проводил ночь без сна. Ситуация была крайне опасная – стреляться договорились с расстояния шести шагов. Мужчина размышлял о перспективе возможной смерти, и она его не страшила. Но тем не менее он не собирался подставить свой лоб под пулю Грушницкого.
Наконец рассвело. Нервы его успокоились. Печорин освежился в холодной ванной и велел седлать лошадей.
Доктор Вернер прибыл к нему и был печален. Друзья двинулись к назначенному месту встречи и увидели три фигуры на скале. Это был Грушницкий с секундантами.
Вернер предложил решить спор полюбовно, на что Печорин с готовность согласился при условии, что Грушницкий публично откажется от своей клеветы и извинится. Молодой офицер не принял этих условий. Решено было стреляться у края отвесной скалы, чтобы побеждённый упал вниз, и его гибель можно было представить, как неудачный прыжок. Вид Грушницкого выдавал внутреннюю борьбу. Придя на край ущелья, соперники бросили жребий. Первому стрелять выпало Грушницкому. Руки его дрожали, ему было совестно стрелять в фактически безоружного человека. Но всё же выстрел раздался, он слегка оцарапал Печорину колено. Секунданты Грушницкого едва сдерживали улыбку, будучи уверенны, что их товарищу ничего не грозит. Печорин, в свою очередь, громко попросил Вернера перезарядить его пистолет. Секунданты соперника стали протестовать, но Грушницкий смирился со своей участью и велел противнику стрелять. Печорин ещё раз осведомился, не готов ли он отказаться от своей клеветы, но тот отказал. И Печорин выстрелил …
Когда дым рассеялся, Грушницкого уже не было на краю ущелья. Наш герой спустился к своей лошади, по пути увидев окровавленные останки соперника на камнях. Он отправился домой, на душе его был камень.
Домой Печорин вернулся только к вечеру. Там его ожидало две записки – одна от Вернера, а другая от Веры. Доктор писал, что всё устроено, как нельзя лучше и улик касательно дуэли нет никаких. Поэтому Печорин может быть спокоен.
Записку от Веры он долго не решался распечатать. Но всё же сделал это. Это было длинное проникновенное послание, в котором женщина описывала то, за что так сильно любит его. А потом сообщила, что испуганная будущей дуэлью, о которой ей рассказал муж, призналась ему в своей любви к Печорину. Муж был очень зол, обозвал её и поспешно повёз прочь из Кисловодска.
Печорин встрепенулся, выбежал из дома и поскакал в сторону Пятигорска на своём и без того уставшем за день коне.
Он непременно хотел догнать Веру, в тот момент она стала для него всем смыслом бытия. Но через пятнадцать вёрст бешенной скачки конь мужчины издох. Он остался один в степи, упал на землю и несколько часов рыдал, как ребёнок.
Придя в себя, Печорин отправился домой, потому что не видел больше смысла гнаться за своим утраченным счастьем. Он вернулся пешком и уснул сном Наполеона после Ватерлоо.
Вечером следующего дня к Печорину зашёл Вернер, сообщить что у Мэри нервное расстройство, а княгиня вполне уверена, что он стрелялся из-за её дочери. Слухи о дуэли могли навредить Печорину. Так и случилось. На следующее утро он получил приказ от командования отправится в крепость Н …
Наш герой зашёл проститься с княгиней. В разговоре с ним она расплакалась от жалости к дочери, которая чахла с каждым днём от своего душевного недуга. Несчастная мать прямым текстом предложила Печорину взять Мери в жёны. На что тот ответил, что хотел бы поговорить с девушкой наедине. Вскоре в комнату вошла княжна, она была бледна и даже как-то немного прозрачна. Печорин в очень сухих и прямолинейных выражениях сказал ей, что просто смеялся на нею и никогда не собирался жениться. Он порекомендовал ей просто презирать его. На что бедняжка отвечала, что она его теперь ненавидит. Печорин откланялся и вышел.
5 (100%) 6 votesТекущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Михаил Лермонтов. Княжна Мери
Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури»; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом… Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?.. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику: там, говорят, утром собирается все водяное обшество.
* * *
Спустясь в середину города, я пошел бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно подымающихся в гору; то были большею частию семейства степных помещиков; об этом можно было тотчас догадаться по истертым, старомодным сюртукам мужей и по изысканным нарядам жен и дочерей; видно, у них вся водяная молодежь была уже на перечете, потому что они на меня посмотрели с нежным любопытством: петербургский покрой сюртука ввел их в заблуждение, но, скоро узнав армейские эполеты, они с негодованием отвернулись.
Жены местных властей, так сказать хозяйки вод, были благосклоннее; у них есть лорнеты, они менее обращают внимания на мундир, они привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум. Эти дамы очень милы; и долго милы! Всякий год их обожатели сменяются новыми, и в этом-то, может быть, секрет их неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют – однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы: штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжи. Они исповедывают глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостиных, куда их не пускают.
Наконец вот и колодец… На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, – бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительниц уединения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльборус; между ними было два гувернера с своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи.
Я остановился, запыхавшись, на краю горы и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать окрестность, как вдруг слышу за собой знакомый голос:
– Печорин! давно ли здесь?
Оборачиваюсь: Грушницкий! Мы обнялись. Я познакомился с ним в действующем отряде. Он был ранен пулей в ногу и поехал на воды с неделю прежде меня. Грушницкий – юнкер. Он только год в службе, носит, по особенному роду франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгиевский солдатский крестик. Он хорошо сложен, смугл и черноволос; ему на вид можно дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии. Грушницкого страсть была декламировать: он закидывал вас словами, как скоро разговор выходил из круга обыкновенных понятий; спорить с ним я никогда не мог. Он не отвечает на ваши возражения, он вас не слушает. Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду, по-видимому имеющую какую-то связь с тем, что вы сказали, но которая в самом деле есть только продолжение его собственной речи.
Он довольно остер: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого не убьет одним словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую жизнь одним собою. Его цель – сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданиям, что он сам почти в этом уверился. Оттого-то он так гордо носит свою толстую солдатскую шинель. Я его понял, и он за это меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Грушницкий слывет отличным храбрецом; я его видел в деле; он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..
Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать. Приезд его на Кавказ – также следствие его романтического фанатизма: я уверен, что накануне отъезда из отцовской деревни он говорил с мрачным видом какой-нибудь хорошенькой соседке, что он едет не так, просто, служить, но что ищет смерти, потому что… тут, он, верно, закрыл глаза рукою и продолжал так: «Нет, вы (или ты) этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да и к чему? Что я для вас! Поймете ли вы меня?» – и так далее.
Он мне сам говорил, что причина, побудившая его вступить в К. полк, останется вечною тайной между им и небесами.
Впрочем, в те минуты, когда сбрасывает трагическую мантию, Грушницкий довольно мил и забавен. Мне любопытно видеть его с женщинами: тут-то он, я думаю, старается!
Мы встретились старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах.
– Мы ведем жизнь довольно прозаическую, – сказал он, вздохнув, – пьющие утром воду – вялы, как все больные, а пьющие вино повечеру – несносны, как все здоровые. Женские общества есть; только от них небольшое утешение: они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. Нынешний год из Москвы одна только княгиня Лиговская с дочерью; но я с ними незнаком. Моя солдатская шинель – как печать отвержения. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостыня.
В эту минуту прошли к колодцу мимо нас две дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Их лиц за шляпками я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса: ничего лишнего! На второй было закрытое платье gris de perles , легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи.
Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Когда она прошла мимо нас, от нее повеяло тем неизъяснимым ароматом, которым дышит иногда записка милой женщины.
– Вот княгиня Лиговская, – сказал Грушницкий, – и с нею дочь ее Мери, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня.
– Однако ты уж знаешь ее имя?
– Да, я случайно слышал, – отвечал он, покраснев, – признаюсь, я не желаю с ними познакомиться. Эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?
– Бедная шинель! – сказал я, усмехаясь, – а кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подает им стакан?
– О! – это московский франт Раевич! Он игрок: это видно тотчас по золотой огромной цепи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость – точно у Робинзона Крузоэ! Да и борода кстати, и прическа à la moujik .
– Ты озлоблен против всего рода человеческого.
– И есть за что…
– О! право?
В это время дамы отошли от колодца и поравнялись с нами. Грушницкий успел принять драматическую позу с помощью костыля и громко отвечал мне по-французски:
– Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mepriser car autrement la vie serait une farce trop degoutante .
Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгим любопытным взором. Выражение этого взора было очень неопределенно, но не насмешливо, с чем я внутренно от души его поздравил.
– Эта княжна Мери прехорошенькая, – сказал я ему. – У нее такие бархатные глаза – именно бархатные: я тебе советую присвоить это выражение, говоря об ее глазах; нижние и верхние ресницы так длинны, что лучи солнца не отражаются в ее зрачках. Я люблю эти глаза без блеска: они так мягки, они будто бы тебя гладят… Впрочем, кажется, в ее лице только и есть хорошего… А что, у нее зубы белы? Это очень важно! жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.
– Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади, – сказал Грушницкий с негодованием.
– Mon cher, – отвечал я ему, стараясь подделаться под его тон, – je meprise les femmes pour ne pas les aimer car autrement la vie serait un melodrame trop ridicule .
Я повернулся и пошел от него прочь. С полчаса гулял я по виноградным аллеям, по известчатым скалам и висящим между них кустарникам. Становилось жарко, и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился у крытой галереи, чтоб вздохнуть под ее тенью, это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором.
Княжна, вероятно допив уж последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца; больше на площадке никого не было.
Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтоб его поднять: больная нога ему мешала. Бежняжка! как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание.
Княжна Мери видела все это лучше меня.
Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести; потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный – даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара… Но вот ее шляпка мелькнула через улицу; она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска, за нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем.
Только тогда бедный юнкер заметил мое присутствие.
– Ты видел? – сказал он, крепко пожимая мне руку, – это просто ангел!
– Отчего? – спросил я с видом чистейшего простодушия.
– Разве ты не видал?
– Нет, видел: она подняла твой стакан. Если бы был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу…
– И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее?..
Я лгал; но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и, я думаю, частые сношения с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. Признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу; это чувство – было зависть; я говорю смело «зависть», потому что привык себе во всем признаваться; и вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно ненакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек (разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самлюбие), который бы не был этим поражен неприятно.
Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару, мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за руку, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?..
Нынче поутру зашел ко мне доктор; его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец.
Вернер человек замечательный по многим причинам. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием; так иногда отличный анатомик не умеет вылечить от лихорадки! Обыкновенно Вернер исподтишка насмехался над своими больными; но я раз видел, как он плакал над умирающим солдатом… Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу: он мне раз говорил, что скорее сделает одолжение врагу, чем другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как ненависть только усилится соразмерно великодушию противника. У него был злой язык: под вывескою его эпиграммы не один добряк прослыл пошлым дураком; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных, – больные взбеленились, почти все ему отказали. Его приятели, то есть все истинно порядочные люди, служившие на Кавказе, напрасно старались восстановить его упадший кредит.
Его наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно, но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души испытанной и высокой. Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразия на красоту самых свежих и розовых эндимионов; надобно отдать справедливость женщинам: они имеют инстинкт красоты душевной: оттого-то, может быть, люди, подобные Вернеру, так страстно любят женщин.
Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребенок; одна нога была у него короче другой, как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна: он стриг волосы под гребенку, и неровности его черепа, обнаруженные таким образом, поразили бы френолога странным сплетением противоположных наклонностей. Его маленькие черные глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-желтых перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно черного цвета. Молодежь прозвала его Мефистофелем; он показывал, будто сердился за это прозвание, но в самом деле оно льстило его самолюбию. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе неспособен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается; рабом я быть не могу, а повелевать в этом случае – труд утомительный, потому что надо вместе с этим и обманывать; да притом у меня есть лакеи и деньги! Вот как мы сделались приятелями: я встретил Вернера в С… среди многочисленного и шумного круга молодежи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убежден в разных разностях.
– Что до меня касается, то я убежден только в одном… – сказал доктор.
– В чем это? – спросил я, желая узнать мнение человека, который до сих пор молчал.
– В том, – отвечал он, – что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру.
– Я богаче вас, сказал я, – у меня, кроме этого, есть еще убеждение – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться.
Все нашли, что мы говорим вздор, а, право, из них никто ничего умнее этого не сказал. С этой минуты мы отличили в толпе друг друга. Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером.
Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня беспокоят мухи, – и мы оба замолчали.
– Заметьте, любезный доктор, – сказал я, – что без дураков было бы на свете очень скучно!.. Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заране, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово – для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость.
Утомленный долгой речью, я закрыл глаза и зевнул…
Он отвечал подумавши:
– В вашей галиматье, однако ж, есть идея.
– Две! – отвечал я.
– Скажите мне одну, я вам скажу другую.
– Хорошо, начинайте! – сказал я, продолжая рассматривать потолок и внутренно улыбаясь.
– Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды, и я уж догадываюсь, о ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали.
– Доктор! решительно нам нельзя разговаривать: мы читаем в душе друг друга.
– Теперь другая…
– Другая идея вот: мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь; во-первых, потому, что такие умные люди, как вы, лучше любят слушателей, чем рассказчиков. Теперь к делу: что вам сказала княгиня Лиговская обо мне?
– Вы очень уверены, что это княгиня… а не княжна?..
– Совершенно убежден.
– Почему?
– Потому что княжна спрашивала об Грушницком.
– У вас большой дар соображения. Княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль.
– Надеюсь, вы ее оставили в этом приятном заблуждении…
– Разумеется.
– Завязка есть! – закричал я в восхищении. – Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно.
– Я предчувствую, – сказал доктор, – что бедный Грушницкий будет вашей жертвой…
– Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я ей заметил, что, верно, она вас встречала в Петербурге, где-нибудь в свете… я сказал ваше имя… Оно было ей известно. Кажется, ваша история там наделала много шума… Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях, прибавляя, вероятно, к светским сплетням свои замечания… Дочка слушала с любопытством. В ее воображении вы сделались героем романа в новом вкусе… Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор.
– Достойный друг! – сказал я, протянув ему руку.
Доктор пожал ее с чувством и продолжал:
– Если хотите, я вас представлю…
– Помилуйте! – сказал я, всплеснув руками, – разве героев представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную…
– И вы в самом деле хотите волочиться за княжной?..
– Напротив, совсем напротив!.. Доктор, наконец я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочем, огорчает, доктор, – продолжал я после минуты молчания, – я никогда сам не открываю моих тайн, а ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда могу при случае от них отпереться. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди?
– Во-первых, княгиня – женщина сорока пяти лет, – отвечал Вернер, – у нее прекрасный желудок, но кровь испорчена; на щеках красные пятна. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве и тут на покое растолстела. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Она мне объявила, что дочь ее невинна как голубь. Какое мне дело?.. Я хотел ей отвечать, чтоб она была спокойна, что я никому этого не скажу! Княгиня лечится от ревматизма, а дочь Бог знает от чего; я велел обеим пить по два стакана в день кислосерной воды и купаться два раза в неделю в разводной ванне. Княгиня, кажется, не привыкла повелевать; она питает уважение к уму и знаниям дочки, которая читала Байрона по-английски и знает алгебру: в Москве, видно, барышни пустились в ученость, и хорошо делают, право! Наши мужчины так не любезны вообще, что с ними кокетничать, должно быть, для умной женщины несносно. Княгиня очень любит молодых людей: княжна смотрит на них с некоторым презрением: московская привычка! Они в Москве только и питаются, что сорокалетними остряками.
– А вы были в Москве, доктор?
– Да, я имел там некоторую практику.
– Продолжайте.
– Да я, кажется, все сказал… Да! вот еще: княжна, кажется, любит рассуждать о чувствах, страстях и прочее… она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество: ее, верно, холодно приняли.
– Вы никого у них не видали сегодня?
– Напротив; был один адъютант, один натянутый гвардеец и какая-то дама из новоприезжих, родственница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная… Не встретили ль вы ее у колодца? – она среднего роста, блондинка, с правильными чертами, цвет лица чахоточный, а на правой щеке черная родинка; ее лицо меня поразило своей выразительностью.
– Родинка! – пробормотал я сквозь зубы. – Неужели?
Доктор посмотрел на меня и сказал торжественно, положив мне руку на сердце:
– Она вам знакома!.. – Мое сердце точно билось сильнее обыкновенного.
– Теперь ваша очередь торжествовать! – сказал я, – только я на вас надеюсь: вы мне не измените. Я ее не видал еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину… Не говорите ей обо мне ни слова; если она спросит, отнеситесь обо мне дурно.
– Пожалуй! – сказал Вернер, пожав плечами.
Когда он ушел, то ужасная грусть стеснила мое сердце. Судьба ли нас свела опять на Кавказе, или она нарочно сюда приехала, зная, что меня встретит?.. и как мы встретимся?.. и потом, она ли это?.. Мои предчувствия меня никогда не обманывали. Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною: всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки… Я глупо создан: ничего не забываю, – ничего!
После обеда часов в шесть я пошел на бульвар: там была толпа; княгиня с княжной сидели на скамье, окруженные молодежью, которая любезничала наперерыв. Я поместился в некотором расстоянии на другой лавке, остановил двух знакомых Д… офицеров и начал им что-то рассказывать; видно, было смешно, потому что они начали хохотать как сумасшедшие. Любопытство привлекло ко мне некоторых из окружавших княжну; мало-помалу и все ее покинули и присоединились к моему кружку. Я не умолкал: мои анекдоты были умны до глупости, мои насмешки над проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства… Я продолжал увеселять публику до захождения солнца. Несколько раз княжна под ручку с матерью проходила мимо меня, сопровождаемая каким-то хромым старичком; несколько раз ее взгляд, упадая на меня, выражал досаду, стараясь выразить равнодушие…
– Что он вам рассказывал? – спросила она у одного из молодых людей, возвратившихся к ней из вежливости, – верно, очень занимательную историю – свои подвиги в сражениях?.. – Она сказала это довольно громко и, вероятно, с намерением кольнуть меня. «А-га! – подумал я, – вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будет!»
Грушницкий следил за нею, как хищный зверь, и не спускал ее с глаз: бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил княгине. Она будет очень рада, потому что ей скучно.
В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит; мне уже пересказали две-три эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца, на бульваре; я употребляю все свои силы на то, чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, – и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя: теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, – и, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок!
Вчера я ее встретил в магазине Челахова; она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться: этот ковер так украсил бы ее кабинет!.. Я дал сорок рублей лишних и перекупил его; за это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение; я даже заметил, что уж два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякий день у меня обедают.
Грушницкий принял таинственный вид: ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает; нога его вдруг выздоровела: он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне: она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкою.
– Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? – сказал он мне вчера.
– Решительно.
– Помилуй! самый приятный дом на водах! Все здешнее лучшее общество…
– Мой друг, мне и нездешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь?
– Нет еще; я говорил раза два с княжной, и более, но знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится… Другое дело, если б я носил эполеты…
– Помилуй! да эдак ты гораздо интереснее! Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением… да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем.
Грушницкий самодовольно улыбнулся.
– Какой вздор! – сказал он.
– Я уверен, – продолжал я, – что княжна в тебя уж влюблена!
Он покраснел до ушей и надулся.
О самолюбие! ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!..
– У тебя все шутки! – сказал он, показывая, будто сердится, – во-первых, она меня еще так мало знает…
– Женщины любят только тех, которых не знают.
– Да я вовсе не имею претензии ей нравиться: я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если б я имел какие-нибудь надежды… Вот вы, например, другое дело! – вы победители петербургские: только посмотрите, так женщины тают… А знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила?
– Как? она тебе уж говорила обо мне?..
– Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца, случайно; третье слово ее было: «Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? он был с вами, тогда…» Она покраснела и не хотела назвать дня, вспомнив свою милую выходку. «Вам не нужно сказывать дня, – отвечал я ей, – он вечно будет мне памятен…» Мой друг, Печорин! Я тебе не поздравляю; ты у нее на дурном замечании… А, право, жаль! Потому что Мери очень мила!..
Надобно заметить, что Грушницкий из тех людей, которые, говоря о женщине, с которой они едва знакомы, называют ее моя Мери, моя Sophie, если она имела счастие им понравиться.
Я принял серьезный вид и отвечал ему:
– Да, она недурна… только берегись, Грушницкий! Русские барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве; а платоническая любовь самая беспокойная. Княжна, кажется, из тех женщин, которые хотят, чтоб их забавляли; если две минуты сряду ей будет возле тебя скучно, ты погиб невозвратно: твое молчание должно возбуждать ее любопытство, твой разговор – никогда не удовлетворять его вполне; ты должен ее тревожить ежеминутно; она десять раз публично для тебя пренебрежет мнением и назовет это жертвой и, чтоб вознаградить себя за это, станет тебя мучить – а потом просто скажет, что она тебя терпеть не может.
Если ты над нею не приобретешь власти, то даже ее первый поцелуй не даст тебе права на второй; она с тобою накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке, и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель, хотя под этой толстой серой шинелью билось сердце страстное и благородное…
Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперед по комнате.
Я внутренно хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к счастью, этого не заметил. Явно, что он влюблен, потому что стал еще доверчивее прежнего; у него даже появилось серебряное кольцо с чернью, здешней работы: оно мне показалось подозрительным… Я стал его рассматривать, и что же?.. мелкими буквами имя Мери было вырезано на внутренней стороне, и рядом – число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Я утаил свое открытие; я не хочу вынуждать у него признаний, я хочу, чтобы он сам выбрал меня в свои поверенные, и тут-то я буду наслаждаться…
Государство

Методическая разработка для воспитателей «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно-образовательном процессе ДОУ»
Семья и Дети

Самые необходимые заговоры на защиту — без них не обойтись Зеркальный щит заговор оберег
Деньги