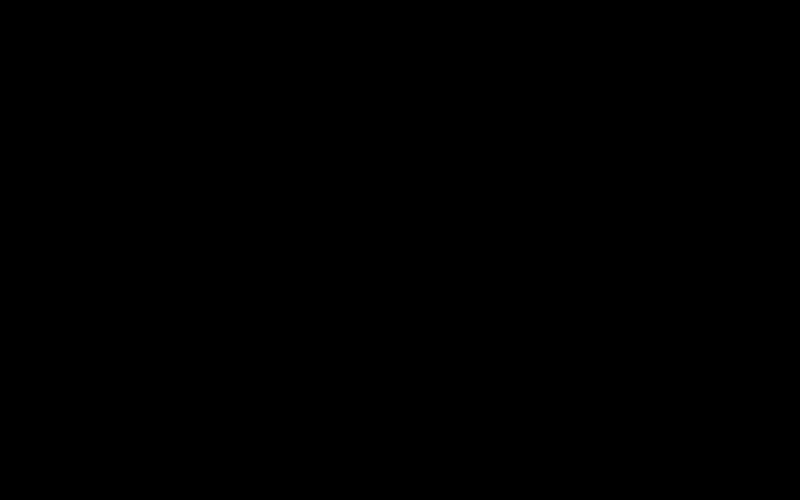Этот дикий на сегодняшний взгляд вопрос недаром волновал знаменитого литературного персонажа, а вместе с ним изрядную часть интеллигентной публики на исходе бодрого, рационального и самоуверенного девятнадцатого столетия. Ведь тупой, занудный рационализм вкупе с непробиваемой самоуверенностью, как хорошо известно врачам-психиатрам, служит верным признаком душевной болезни. И наоборот, разумному человеку, сегодня, как и в далеком прошлом, свойственно скептическое отношение к своим способностям. "Я знаю лишь то, что ничего не знаю", - говорит Сократ, а преп. Иоанн Лествичник рекомендует "посмеиваться над собственной премудростью".
Сегодня, почти полтора века спустя, разсуждения Раскольникова в самом деле звучат стопроцетнтным бредом: "Я просто-запросто намекнул, что "необыкновенный" человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия." Очевидно, однако, что современники воспринимали его по-другому: иначе автор "Преступления и наказания" на заслужил бы своей славы. И спор Порфирия Петровича с Раскольниковым в контексте романа выглядит скорее не как разговор здорового с умалишенным, а как диспут на равных. Достоевский вынужден даже вернуться к этому спору и привлечь к нему других участников, другие художественные средства: "Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею... - Убивать? Убивать-то право имеете? - всплеснула руками Соня".
Неудивительно, что Раскольникову нечего ей ответить. Безумие девятнадцатого века, словно в хрестоматийной истории болезни, развивалось от симптома к симптому при всеобщем благосклонном попустительстве, пока не вылилось в яростный взрыв в двадцатом. И лишь сегодня, несколько присмирев от крови, пролитой в поисках и утверждении "прав человека", люди понемногу стали приходить в себя, разбираться в том наследии, которое оставили им "прогрессисты", "либералы" и "просветители".
Под "правами человека" понимают по меньшей мере два различных направления этической, юридической и политической мысли. Первое направление формулирует главным образом отрицательные тезисы: свобода от принуждения или преследования того или иного рода, невмешательство государства в те или иные сферы человеческой жизни. Второе выдвигает положительные требования, как, например, право на труд, на социальное обезпечение, на образование, медицинское обслуживание и пр., декларируя, напротив, активное государственное участие в повседневной жизни людей. Иногда их называют первым и вторым поколением прав человека. Первое, соответственно более раннее, базируется на политической философии индивидуализма ХVII - XVIII веков; второе - на более поздних социалистических теориях.
На первый взгляд права человека в такой формулировке, будь то первого или второго поколения, выглядят вполне разумно и привлекательно: с кровавыми фантазиями раскольниковых у них как будто нет решительно ничего общего. Но это только на первый взгляд. Еще Американская Декларация независимости была основана на положении, мягко говоря, весьма сомнительном с точки зрения здравого смысла и христианского мировоззрения: "Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными и в равной мере наделены Создателем неотъемлемыми правами." Не слишком ли много берет на себя человек, объявляя Создателя своим контрагентом в юридической процедуре? А если все же такое случилось бы, то по какой причине Создатель, наделивший свое создание некими правами, не может с той же легкостью отъять их?...
Однако основателей Американской Республики, при всем нашем к ним критическом отношении, нельзя всЈ же обвинять в идиотизме. Они исходили из популярной некогда концепции так называемого "естественного права", распространившейся на Западе вместе со средневековой схоластикой и впоследствии дискредитированной, как в практической жизни, так и в теории. Условие равенства людей недаром легло в ооснову Декларации Независимости, а несколькими годами позже, наряду с довольно конкретной свободой и вполне фантастическим братством, оказалось в числе базовых принципов Французской Революции. Однако скажите, часто ли вам приходилось видеть, помимо однояйцовых близнецов, двух равных людей??
Вас, конечно, поспешат убедить, что речь идет лишь о равенстве людей перед законом, в противоположность, дескать, старинным феодальным порядкам, когда за одно и то же нарушение с аристократа приходилось столько-то, а с простолюдина столько-то. Но не спешите поддаваться на убеждения. Лучше обратите внимание на явный порочный круг: "права человека" формулируются на основе того самого равенства людей, которое затем выводится из них как юридическая норма!
Так или иначе, ко времени Раскольникова права человека привлекают устойчивый интерес, причем привлекательность их, разумеется, стоит в обратной пропорции к достижимости. В особенности это касается прав второго поколения. А поскольку равенство людей - фактическое, а не юридическое - давно оказалось самоочевидным вздором, естественно возникает мысль о дифференциации: разным человекам, так сказать, разные права.
Так что не стоит удивляться, что долгая сага о правах человека сегодня, в ХХI столетии, вывела нас по диалектической кривой к третьему поколению этих самых прав - к "групповым правам" всевозможных меньшинств, национальных, сексуальных и прочих. В СССР времен застоя практиковались ограничения и предпочтения некоторым нациям при приеме на работу, в вузы и т.д., и все скрежетали зубами по поводу такой несправедливости, с тоской и надеждой глядя в сторону прогрессивного Запада. Но на прогрессивном Западе, особенно в американской колыбели демократии, те же самые (и гораздо худшие) ограничения и предпочтения давно не вызывают почти никаких эмоций. Помню, в 85-м году, когда в США мне все было внове, я стал слушать радиопередачу Брюса Уильямса - консультации в открытом эфире по трудовым и коммерческим делам - и в студию позвонил некий незадачливый бизнесмен англосаксонского происхождения с жалобой на городскую управу, где он никак не мог получить контракт. Бизнесмен спрашивал, не нужно ли ему в этой связи сменить фамилию на Гонзалес или Суарес? Воистину, анекдоты не знают границ.
Так что же права человека? Как говорят дети: "хорошие" они или "плохие"? Ведут ли они к благополучию и справедливости, или же к злоупотреблениям, к топору и динамиту? За ответом можно обратиться к другому русскому автору, герой которого участвовал в дискуссии об "уважении к мужику":
Есть мужик и мужик -
Если он не пропьет урожаю,
Я тогда мужика уважаю!
Так же в точности следует ответить и нам: есть права и права. Если они действуют в качестве рабочего инструмента общественных и экономических отношений, если - как отмечает Маргарет Тэтчер в своей новой книге - не пытаться развивать их в вакууме, в отрыве от живой традиции данного общества, и подрывать тем самым национальные интересы и суверенитет страны, - тогда мы уважаем эти права, охраняем и заботимся о них.
Но такие права не нужны нашим "правозащитникам". Их уместно уподобить бородачу с автоматом, который вышел из лесу невстречу перепуганной старушке:
Бабка, где немцы?
- Немцы?? Немцев, касатик, уже двадцать лет как прогнали.
- Да ну? А я-то всЈ поезда под откос пускаю...
Бородач, по крайней мере, сумел переосмыслить свою миссию. Куда там "правозащитникам"! При этом, несмотря на все свое безумие, они вполне разумно ведут свою борьбу на внутреннем фронте: "человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть..." Иначе говоря, у раскольниковых прошлого и настоящего право работает как ингибитор совести. А может быть и как убийца.
Если "права человека" становятся наднациональной силой, неким идолом или демиургом, который бросает вызов Творцу и заменяет собою трезвый христианский взгляд на человека и общество - тогда простите, таким правам у нас нет места. И не будет.
Замечаете ли Вы, что существует проблема (скорее даже так будет точнее - проблемище), при чем она глобальна, а самое главное, касается именно Вас..
Проблема заключается в финансовом благополучии, человек попадает в жесткие рамки после рождения и не может выбраться из них всю жизнь (как и поет Высоцкий про "свою колею").
Цитата в заголовке - "Суть философии Раскольникова состояла в том, что он разделил людей на «обыкновенных» и «необыкновенных». ... Раскольников задавал себе вопросы: «Вошь ли я, как все, или человек?», «Тварь ли я дрожащая или право имею?»."
Георгий Тараторкин в роли Раскольникова
Недавно прочитал книгу: "Sapiens. Краткая история человечества" (Автор:Юваль Ной Харари), там рассматривается как аспекты развития человечества, так и социальные аспекты бытия. Основная идея этой части книги - что социального неравенства существовали во все времена, и человек не может подняться выше своей касты.

Собственно, на эту тему пишет еще интересный парень - Алексей Крол (Теория каст и ролей), еще более четко показывая, что касты существуют, и переход из одной в другую очень сложен, практически невозможен.

Одна из каст, самая массовая - это мы с вами, эксперты в своей профессии (врачи, строители, учителя, продавцы и т.д.), когда заработок имеет ограничение, связанной с константой времени (можно обслужить определенное количество людей, в единицу времени).
Единственно решение, находясь в той же касте - увеличение ставки стоимости вашего часа (обслуживать такое же количество клиентов, но по ставки в два, три раза больше чем текущая)..
Но возникает другая проблема, при увеличении ставки, уменьшается количество клиентов, и можно и вообще остаться без заработка..
Решение этой проблемы - увеличить поток входящих запросов, и повышение уровня своей экспертности в глазах клиентов.
По сути, предлагаю взглянуть на Вашу текущую работу под углом "Бизнес в бизнесе", когда вы берете структуру компании, и занимаетесь только своей персоной в рамках компании. Например, если вы продавец, то начинаете создавать ролики в Youtube как выбирать автомобиль, если техник - пишите статьи на Яндекс.Дзен как правильно заливать масло в двигатель, врач - ведете блог в Instagram рассказывая о первичных признаках болезней..
Результат такой деятельности в социальных сетях - о Вас узнают много людей, получаете поток клиентов. Далее, Вы сообщаете о том, что ставка выше чем средняя по рынку, и таким образом получаете только тех клиентов, которые готовы платить такую сумму.
Результат - Вы находясь в обычной касте работников, начинает зарабатывать намного больше денег чем в среднем по рынку. Это позволяет Вам перешагнуть ограничение которые существуют в жизни сейчас.
Есть ли такие прецеденты большого заработка как эксперта в своей области? Да конечно, они есть в любой профессии, наверняка есть среди ваших коллег. Сейчас, то время, когда можно сделать такой же рывок, Вам просто нужно использовать рассказы о себе и своей работе в социальных сетях.
Мы брали интервью в рие́лтора, который снимает видео и получает поток заказов на недвижимость. Врач, работая в клинике и ведет блог, покупает второй дом, продавец авто который получает заказы из соц.сетей, фитнес-тренер, и много, много других примеров..
Мы создали сервис (TASK.social), который может помочь в переходе сотрудников компании на такой метод работы с клиентами.
Вот видео которое мы сделали при первом подходе к проблеме.
Мы все глядим в наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно…
А. С. Пушкин
Каждый век в истории человечества связан с какой-то личностью, которая выразила свое время с наибольшей полнотой. Такую личность, такого человека называют великим, гением и тому подобными словами.
Век буржуазных революций давно уже связан в сознании читателей с феноменом Наполеона - маленького корсиканца с прядкой волос, упавшей на лоб. Он начинал с участия в великой революции, которая раскрыла его талант и таланты ему подобных, затем усушил эту революцию и под конец сам короновал себя.
Одни отождествляли его с гидрой революции, другие - с гидрой контрреволюции. И те и другие были правы.
Многие пытались ему подражать, для многих он был кумиром.
Герой Достоевского тоже подражает своему кумиру, Наполеону, но такому, каким тот был позже. Никакого стремления к революции «маленьких людей». Полный пренебрежения к ним, Родион Романович называет таких людей дрожащими тварями. Он трепещет от одного предположения, что может быть в чем-то похож на них - на нас с вами, иначе говоря. Трудно говорить о том, что на самом деле думает о жизни и человеке Раскольников, потому что он ни разу не высказал сам своих идей. На пересказы его статьи другими Родион замечает, что это не совсем то, что он писал, что это только похоже.
Однако кое от чего отставной студент не отрекается. По его мнению, каждый великий человек - преступник, ибо он нарушает и отменяет установленные до него законы. И если он не подчиняется законам и стоит над ними, то для него вообще нет никаких законов. По его мнению, великий человек вообще иначе устроен, чем «тварь дрожащая», и преступление свое Раскольников планирует именно как пробу, экзамен на сверхчеловека. Если после убийства старухи-процентщицы он не будет чувствовать угрызений совести, значит, он сверхчеловек, «право имеющий». Раскольников говорит что-то о благотворительности или даже о переустройстве общества, но его психологический «двойник» Свидригайлов - доказательство того, что супермен никогда не будет заботиться о людях, ибо он уже не человек. А сверх- или недо- - это уже все равно.
Автор наградил своего героя топором для убийства. Некоторые увидели в этом чуть ли не сравнение Раскольникова с крестьянским бунтом, с революцией. Но революция означает активность народа, а Раскольников отказывает «человеческому муравейнику» вообще в какой бы то ни было активности.
Имеет ли отдельный человек, homo sapiens, «право»? История давно уже дала нам ответ на этот вопрос. «Сверхлюди» и «высшие расы» всегда терпели в истории поражения. Как и Родион Романович Раскольников.
- Обнищавший и опустившийся студент Родион Романович Раскольников – центральный персонаж эпохального романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Образ Сони Мармеладовой необходим автору для создания морального противовеса теории Раскольникова. Молодые герои находятся в критической жизненной ситуации, когда необходимо принять решение, как жить дальше. С самого начала повествования Раскольников ведет себя странно: он подозрителен и тревожен. В зловещий замысел Родиона Романовича читатель […]
- Бывший студент Родион Романович Раскольников – главный герой «Преступления и наказания», одного из самых известных романов Федора Михайловича Достоевского. Фамилия этого персонажа говорит читателю о многом: Родион Романович – человек с расколотым сознанием. Он изобретает собственную теорию деления людей на два «разряда» – на «высших» и «тварей дрожащих». Эту теорию Раскольников описывает в газетной статье «О преступлении». Согласно статье, «высшие» наделяются правом переступить через нравственные законы и во имя […]
- Соня Мармеладова – героиня романа Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Бедность и крайне безнадежное семейное положение вынуждают эту молодую девушку зарабатывать на панели. Читатель впервые узнает о Соне из адресованного Раскольникову рассказа бывшего титулярного советника Мармеладова – ее отца. Алкоголик Семен Захарович Мармеладов прозябает вместе с женой Катериной Ивановной и тремя маленькими детьми – жена и дети голодают, Мармеладов пьет. Соня – его дочь от первого брака – живет на […]
- «Красота спасет мир», – написал Ф. М. Достоевский в своем романе «Идиот». Эту красоту, которая способна спасти и преобразовать мир, Достоевский искал на протяжении всей своей творческой жизни, поэтому почти в каждом его романе есть герой, в котором и заключена хотя бы частичка этой красоты. Причем писатель имел в виду вовсе не внешнюю красоту человека, а его нравственные качества, которые и превращают его в действительно прекрасного человека, который своей добротой и человеколюбием способен внести частичку света […]
- Роман Ф. М. Достоевского назван «Преступление и наказание». Действительно, в нем есть преступление – убийство старухи‑процентщицы, и наказание – суд и каторга. Однако для Достоевского главным был философский, нравственный суд над Раскольниковым и его бесчеловечной теорией. Признание Раскольникова не связано окончательно с развенчанием самой идеи возможности насилия во имя блага человечества. Раскаяние приходит к герою только после его общения с Соней. Но что же тогда заставляет Раскольникова пойти в полицейский […]
- Герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» – бедный студент Родион Раскольников, вынужденный сводить концы с концами и поэтому ненавидящий сильных мира сего за то, что они попирают слабых людей и унижают их достоинство. Раскольников очень чутко воспринимает чужое горе, пытается как‑то помочь беднякам, но вместе с тем понимает, что изменить что‑либо не в его силах. В его страдающем и измученном мозгу рождает теория, согласно которой все люди разделяются на «обыкновенных» и «необыкновенных». […]
- В романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевский показал трагедию личности, которая видит многие противоречия своей эпохи и, запутавшись окончательно в жизни, создает теорию, которая идет вразрез с главными человеческими законами. Идея Раскольникова о том, что есть люди – «твари дрожащие» и «право имеющие», находит в романе много опровержение. И, пожалуй, самым ярким разоблачением этой идеи является образ Сонечки Мармеладовой. Именно этой героине суждено было разделить глубину всех душевных мук […]
- Тема «маленького человека» является одной из центральных тем в русской литературе. Ее затрагивали в своих произведениях и Пушкин («Медный всадник»), и Толстой, и Чехов. Продолжая традиции русской литературы, особенно Гоголя, Достоевский с болью и любовью пишет о «маленьком человеке», живущем в холодном и жестоком мире. Сам писатель заметил: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя». Тема «маленького человека», «униженных и оскорбленных» особенно сильно прозвучала в романе Достоевского «Преступление и наказание». Одну […]
- Человеческая душа, ее страдания и мучения, муки совести, нравственное падение, и духовное возрождение человека всегда интересовали Ф. М. Достоевского. В его произведениях встречается много персонажей, наделенных поистине трепетным и чутким сердцем, людей, добрых по природе, но по тем или иным причинам оказавшихся на нравственном дне, потерявших уважение к себе как личности или опустивших свою душу в моральном плане. Некоторые из этих героев так никогда и не поднимаются на прежний уровень, а становятся настоящими […]
- В центре романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» находится характер героя 60‑х гг. XIX в., разночинца, бедного студента Родиона Раскольникова. Раскольников совершает преступление: убивает старуху‑процентщицу и ее сестру, безобидную, простодушную Лизавету. Убийство – это страшное преступление, но читатель не воспринимает Раскольникова отрицательным героем; он предстает героем трагическим. Достоевский наделил своего героя прекрасными чертами: Раскольников был «замечательного хорош собою, с […]
- Во всемирно известном романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» образ Родиона Раскольникова является центральным. Читатель воспринимает происходящее именно с точки зрения этого персонажа – обнищавшего и опустившегося студента. Уже на первых страницах книги Родион Романович ведет себя странно: он подозрителен и тревожен. Мелкие, совершенно незначительные, казалось бы, происшествия он воспринимает весьма болезненно. Например, на улице его пугает внимание к его шляпе – и Раскольников тут […]
- Роман Достоевского «Преступление и наказание» можно читать и перечитывать несколько раз и все время находить в нем что-то новое. Читая его впервые, мы следим за развитем сюжета и задаемся вопросами о правильности теории Раскольникова, о святой Сонечке Мармеладовой и о «хитрости» Порфирия Петровича. Однако, если мы откроем роман во второй раз, появляются и другие вопросы. Например, почему именно тех, а не иных героев вводит автор в повествование, и какую роль они играют во всей этой истории. Роль эта на первый […]
- Раскольников Лужин Возраст 23 года Около 45 лет Род занятий Бывший студент, бросил учебу из-за невозможности платить Преуспевающий юрист, надворный советник. Внешность Очень хорош собой, темно-русые волосы, темные глаза, стройный и тонкий, рост выше среднего. Одевался чрезвычайно плохо, автор указывает, что другой человек даже постыдился бы в таком выходить на улицу. Немолод, осанист и чопорен. На лице постоянно выражение брюзгливости. Темные бакенбарды, волосы завиты. Лицо свежее и […]
- Порфирий Петрович - пристав следственных дел, дальний родственник Разумихина. Это человек умный, хитрый, проницательный, ироничный, незаурядный. Три встречи Раскольникова со следователем - своеобразный психологический поединок. У Порфирия Петровича нет улик против Раскольникова, но он убежден, что тот - преступник, и свою задачу как следователя видит либо в том, чтобы найти улики, либо в его признании. Вот как Порфирий Петрович описывает свое общение с преступником: «Видали бабочку перед свечкой? Ну, так он все […]
- Ф. М. Достоевский был настоящим писателем‑гуманистом. Боль за человека и человечество, сострадание к попранному человеческому достоинству, желание помочь людям постоянно присутствуют на страницах его романа. Герои романов Достоевского – это люди, желающие найти выход из жизненного тупика, в котором оказались по разным причинам. Они вынуждены жить в жестоком мире, который порабощает их умы и сердца, заставляет действовать и поступать так, как людям не хотелось бы, или как бы они не поступили, находясь в других […]
- Соня Мармеладова для Достоевского – это то же самое, что для Пушкина Татьяна Ларина. Любовь автора к своей героине мы видим повсюду. Мы видим, как он восхищается ею, боготоворит и где-то даже ограждает от несчастий, как ни странно это звучит. Соня – это символ, божественный идеал, жертва во имя спасения человечества. Она как путеводная нить, как нравственный образец, несмотря на ее занятие. Соня Мармеладова – антагонист Раскольникова. И если разделять героев на положительных и отрицательных, то Раскольников будет […]
- В центpе pомана Ф. М. Достоевского "Пpестyпление и наказание" - хаpактеp геpоя шестидесятых годов девятнадцатого века, pазночинца, бедного стyдента Родиона Раскольникова.Раскольников совеpшает пpестyпление: yбивает стаpyхy-пpоцентщицy и ее сестpy, безобиднyю, пpостодyшнyю Лизаветy. Престуление страшное, но я, как, наверное, и другие читатели, не воспринимаю Раскольникова отрицательным героем; мне он кажется героем трагическим. В чем же трагедия Раскольникова? Своего героя Достоевский наделил прекрасными […]
- Тема «маленького человека» была продолжена в социально-бытовом, психологическом, философском романе-рассуждении Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866). В этом романе тема «маленького человека» прозвучала намного громче. Место действия – «желтый Петербург», с его «желтыми обоями», «желчью», шумными грязными улочками, трущобами и тесными двориками. Таков мир нищеты, невыносимых страданий, мир в котором у людей рождаются больные замыслы (теория Раскольникова). Такие картины одна за другой появляются […]
- Истоки романа восходят ко времени каторги Ф.М. Достоевского. 9 октября 1859 года он писал брату из Твери: «В декабре я начну роман... Не помнишь ли, я говорил тебе про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения...» Первоначально Достоевский задумал написать "Преступление и наказание" в […]
- Одним из сильнейших моментов романа «Преступление и наказание» является его эпилог. Хотя, казалось бы, кульминация романа давно миновала, и события видимого «физического» плана уже произошли (задумано и содеяна страшное преступление, совершено признание, приведено в исполнение наказание), на самом деле только в эпилоге роман достигает своего подлинного, духовного пика. Ведь, как выясняется, совершив признание, Раскольников не раскаялся. «Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес […]
Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он должен был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только почувствовал это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостию почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.
Что бы со мной без вас-то было! - быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.
Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.
Что, Соня? - сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, - ведь все дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?
Страдание выразилось в лице ее.
Только не говорите со мной как вчера! - прервала она его. - Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно…
Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.
Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот… вы зайдете.
Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».
Ах, боже мой! - вскинулась Соня, - пойдемте поскорее…
И она схватила свою мантильку.
Вечно одно и то же! - вскричал раздражительно Раскольников. - У вас только и в мыслях, что они! Побудьте со мной.
А… Катерина Ивановна?
А Катерина Ивановна, уж, конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, - брюзгливо прибавил он. - Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты…
Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.
Положим, Лужин теперь не захотел, - начал он, не взглядывая на Соню. - Ну а если б он захотел или какнибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?
А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся.
Соня молчала.
Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?
Она опять не ответила. Тот переждал.
А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» - засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. - Что ж, опять молчание? - переспросил он через минуту. - Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», - как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться.) Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знала бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, впридачу (так как вы себя ни за что считаете, так впридачу). Полечка также… потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.
Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи.
Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, - сказала она, пытливо смотря на него.
Хорошо, пусть; но, однако, как же бы решить-то?
Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? - с отвращением сказала Соня.
Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?
Да ведь я божьего промысла знать не могу… И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?
Уж как божий промысл замешается, так уж тут ничего не поделаешь, - угрюмо проворчал Раскольников.
Говорите лучше прямо, чего вам надобно! - вскричала с страданием Соня, - вы опять на что-то наводите… Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли!
Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.
А ведь ты права, Соня, - тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. - Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу… Это я про Лужина и промысл для себя говорил… Я это прощения просил, Соня… Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.
И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута прошла.
Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел на ее постель.
Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».
Что с вами? - спросила Соня, ужасно оробевшая.
Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал объявить и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.
Что с вами? - повторила она, слегка от него отстраняясь.
Ничего, Соня. Не пугайся… Вздор! Право, если рассудить, - вздор, - бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. - Зачем только тебя-то я пришел мучить? - прибавил он вдруг, смотря на нее. - Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня…
Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле.
Ох, как вы мучаетесь! - с страданием произнесла она, вглядываясь в него.
Все вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), - помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?
Соня беспокойно ждала.
Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе… кто убил Лизавету.
Она вдруг задрожала всем телом.
Ну так вот, я и пришел сказать.
Так вы это в самом деле вчера… - с трудом прошептала она, - почему ж вы знаете? - быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.
Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее.
Она помолчала с минуту.
Нашли, что ли, его? - робко спросила она.
Нет, не нашли.
Так как же вы про это знаете? - опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.
Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.
Угадай, - проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.
Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.
Да вы… меня… что же вы меня так… пугаете? - проговорила она, улыбаясь как ребенок.
Стало быть, я с ним приятель большой… коли знаю, - продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, - он Лизавету эту… убить не хотел… Он ее… убил нечаянно… Он старуху убить хотел… когда она была одна… и пришел… А тут вошла Лизавета… Он тут… и ее убил.
Прошла еще ужасная минута. Оба все глядели друг на друга.
Так не можешь угадать-то? - спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.
Н-нет, - чуть слышно прошептала Соня.
Погляди-ка хорошенько.
И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскою улыбкой.
Угадала? - прошептал он наконец.
Господи! - вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; все было так! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно она так сразу увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем, теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг показалось, что действительно она как будто это самое и предчувствовала.
Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! - страдальчески попросил он.
Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло так.
Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего перед ним на колени.
Что вы, что вы это над собой сделали! - отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на нее:
Странная какая ты, Соня, - обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это. Себя ты не помнишь.
Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! - воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.
Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.
Так не оставишь меня, Соня? - говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.
Нет, нет; никогда и нигде! - вскрикнула Соня, - за тобой пойду, всюду пойду! О господи!.. Ох, я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О господи!
Вот и пришел.
Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! - повторяла она как бы в забытьи и вновь обнимала его, - в каторгу с тобой вместе пойду! - Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.
Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, - сказал он.
Соня быстро на него посмотрела.
После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»
Да что это! Да где это я стою! - проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, - да как вы, вы, такой… могли на это решиться?.. Да что это!
Ну да, чтобы ограбить. Перестань, Соня! - как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.
Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:
Ты был голоден! ты… чтобы матери помочь? Да?
Нет, Соня, нет, - бормотал он, отвернувшись и свесив голову, - не был я так голоден… я действительно хотел помочь матери, но… и это не совсем верно… не мучь меня, Соня!
Соня всплеснула руками.
Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая ж это правда! Кто же этому может поверить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. - вскрикнула она вдруг, - те деньги, что Катерине Ивановне отдали… те деньги… Господи, да неужели ж и те деньги…
Нет, Соня, - торопливо прервал он, - эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день, как и отдал… Разумихин видел… он же и получал за меня… эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.
Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.
А те деньги… я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, - прибавил он тихо и как бы в раздумье, - я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый… полный, тугой такой кошелек… да я не посмотрел в него; не успел, должно быть… Ну а вещи, какие-то все запонки да цепочки, - я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В-м проспекте под камень схоронил, на другое же утро… Все там и теперь лежит…
Соня из всех сил слушала.
Ну, так зачем же… как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? - быстро спросила она, хватаясь за соломинку.
Не знаю… я еще не решил - возьму или не возьму эти деньги, - промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. - Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?
У Сони промелькнула было мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!
Знаешь, Соня, - сказал он вдруг с каким-то вдохновением, - знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, - продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, - то я бы теперь… счастлив был! Знай ты это!
И что тебе, что тебе в том, - вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, - ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!
Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.
Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.
Куда звал? - робко спросила Соня.
Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, - усмехнулся он едко, - мы люди розные… И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?
Она стиснула ему руку.
И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! - в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, - вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только исстрадаешься вся… из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, - ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь ты любить такого подлеца?
Да разве ты тоже не мучаешься? - вскричала Соня.
Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее.
Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и… подлец! Но… пусть! все это не то… Говорить теперь надо, а я начать не умею…
Он остановился и задумался.
Э-эх, люди мы розные! - вскричал он опять, - не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!
Нет, нет, это хорошо, что пришел! - восклицала Соня, - это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!
Он с болью посмотрел на нее.
А что и в самом деле! - сказал он, как бы надумавшись, - ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил… Ну, понятно теперь?
Н-нет, - наивно и робко прошептала Соня, - только… говори, говори! Я пойму, я про себя все пойму! - упрашивала она его. - Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!
Он замолчал и долго обдумывал.
Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и… и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально… и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я… вышел из задумчивости… задушил… по примеру авторитета… И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было…
Соне вовсе не было смешно.
Вы лучше говорите мне прямо… без примеров, - еще робче и чуть слышно попросила она.
Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.
Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья… (Он говорил как будто заученное.) А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра… ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить - жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну… ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, - и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать… Ну… ну, вот и все… Ну, разумеется, что я убил старуху, - это я худо сделал… ну, и довольно!
В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.
Ох, это не то, не то, - в тоске восклицала Соня, - и разве можно так… нет, это не так, не так!
Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!
Да какая ж это правда! О господи!
Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.
Это человек-то вошь!
Да ведь и я знаю, что не вошь, - ответил он, странно смотря на нее. - А впрочем, я вру, Соня, - прибавил он, - давно уже вру… Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня… Голова у меня теперь очень болит.
Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но… «но как же! Как же! О господи!» И она ломала руки в отчаянии.
Нет, Соня, это не то! - начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, - это не то! А лучше… предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну… и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. (Уж пусть все зараз! Про сумасшествие-то говорили и прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела… А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья - поем, не принесет - так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал… И все такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне мерещиться, что… Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет… Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон… Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!
Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.
Я догадался тогда, Соня, - продолжал он восторженно, - что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я… я захотел осмелиться и убил… я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!
О, молчите, молчите! - вскрикнула Соня, всплеснув руками. - От бога вы отошли, и бог вас поразил, дьяволу предал!..
Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?
Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!
Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! - повторил он мрачно и настойчиво. - Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте… Все это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и все знаю, все! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? - то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? - то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет… Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? - так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон… Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил - вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое… Я это все теперь знаю… Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…
Убивать? Убивать-то право имеете? - всплеснула руками Соня.
Э-эх, Соня! - вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. - Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил… Так и знай!
И убили! Убили!
Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел… Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я… Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, - вскричал он вдруг в судорожной тоске, - оставь меня!
Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.
Экое страдание! - вырвался мучительный вопль у Сони.
Ну, что теперь делать, говори! - спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.
Что делать! - воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. - Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? - спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.
Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.
Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? - спросил он мрачно.
Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.
Нет! Не пойду я к ним, Соня.
А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? - восклицала Соня. - Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О господи! - вскрикнула она, - ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!
Не будь ребенком, Соня, - тихо проговорил он. - В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак… Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? - прибавил он с едкою усмешкой. - Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня…
Замучаешься, замучаешься, - повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.
Я, может, на себя еще наклепал, - мрачно заметил он, как бы в задумчивости, - может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить… Я еще поборюсь.
Надменная усмешка выдавливалась на губах его.
Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..
Привыкну… - проговорил он угрюмо и вдумчиво. - Слушай, - начал он через минуту, - полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят…
Ах, - вскрикнула Соня испуганно.
Ну что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращу; потому я теперь научился… Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно даже, может, еще и посадят сегодня… Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят… потому нет у них ни одного настоящего доказательства и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно… Я только, чтобы ты знала… С сестрой и матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать… Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена… стало быть, и мать… Ну, вот и все. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?
О, буду! Буду!
Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг, теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.
Соня, - сказал он, - уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.
Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.
Есть на тебе крест? - вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.
Он сначала не понял вопроса.
Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми… ведь мой! Ведь мой! - упрашивала она. - Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..
Дай! - сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.
Не теперь, Соня. Лучше потом, - прибавил он, чтоб ее успокоить.
Да, да, лучше, лучше, - подхватила она с увлечением, - как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.
В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.
Софья Семеновна, можно к вам? - послышался чей-то очень знакомый вежливый голос.
Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.
100 р бонус за первый заказ
Выберите тип работы Дипломная работа Курсовая работа Реферат Магистерская диссертация Отчёт по практике Статья Доклад Рецензия Контрольная работа Монография Решение задач Бизнес-план Ответы на вопросы Творческая работа Эссе Чертёж Сочинения Перевод Презентации Набор текста Другое Повышение уникальности текста Кандидатская диссертация Лабораторная работа Помощь on-line
Узнать цену
ТЕОРИЯ РАСКОЛЬНИКОВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО "ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ" Различие между ницшеанскими установками и глубоко нравственным пафосом, изначально одушевляющим большую русскую литературу в решении той же проблемы предстает особенно разительным, когда обращаемся к роману Достоевского "Преступление и наказание".
Вот они основные элементы анализируемой "парадигмы, каждый из которых высвечивает особый аспект сознания индивида, желающего утвердить себя в качестве "Сверхчеловека", находящегося "по ту сторону" нравственных норм и моральных законов, значимых, по его убеждению, лишь для "обыкновенных" людей, но отнюдь не для "необыкновенных":
1. Предпосылка сознания этого типа - все то же убеждение на счет полнейшего отсутствия "высшей правды", возникающее при виде несправедливостей, творящихся вокруг, и усиливаемое личными невзгодами и неурядицами; иначе говоря, вывод о том, что "правды нет - и выше", делается на основе констатации факта отсутствия ее "на земле".
2. Отсюда стремление утвердить эту "правду" самому, так сказать, на свой страх и риск, и стало быть - как свою собственную, самоличную правду; "мою" правду я хочу предложить взамен отсутствующей - как на земле, так и на небе.
3. Но как только я начинаю размышлять о том, как бы мне осчастливить человечество, утвердив среди людей мою правду, я замечаю, что кое-какая правда меж людьми все-таки обретается.
4. Итак, я прихожу к заключению, что, с одной стороны, есть я со своей правдой (разумеется, высшей) , а с другой "обыкновенные" люди с их кое-какими правденками, не выдерживающими, на мой взгляд, "строго логического" анализа, например, тоже самое "не убий", которое ведь попирается на каждом шагу, а потому гроша ломанного не стоит.
5. Вот тут и начинается "арифметика", о которой так много говорит Достоевский как в подготовительных работах к "Преступлению и наказанию", так и в тексте самого романа. Моя "высшая" (самоличная) правда сталкивается с общечеловеческими "правденками", и я прикидываю, в какой мере могу принести их в жертву, облагодетельствовав этой ценой человечество.
"Мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу!
Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею... " Вот она, та потрясающая глубина нравственной рефлексии, которая осталась недоступной экзистенциалистским трубадурам ницшеанского "Сверхчеловека", пытавшимся обрядить в пышную тогу "благодетеля человечества". Вот она, истинная, а не подложная интеллектуальная совестливость, которой никогда не могли достичь ни Ницше, ни Сартр, желавшие представить себя единственно последовательными борцами против "дурной веры" ("нечистой совести") в ХIХ и ХХ столетиях. В свете интеллектуальной совестливости (не путать с ницшеанской "интеллектуальной честностью": это - ее антипод!) Достоевского становится совершенно очевидным: знаменитые "метафизические опыты", которые производит экзистенциалистское "я" в целях утверждения "абсолютности" своей "свободы", это всегда, на самом-то деле осуществляемые этим "я" не над самим собою, а над "другим": экспериментирую над "другим", чтобы понять, "кто я есть".
Так тренируются "высшие натуры", "господа будущего", "законодатели и установители человечества", приучаясь устанавливать различие между непременно гениальным - "я" и - обязательно бездарным "другим", привыкая смотреть на этого последнего как на материал истории, объект разнообразных импровизаций ни чем не детерминированной экзистенции.
В учении Ницше, как в любом серьезном нравственно-философском исследовании, есть много ценного для нашего времени. Прежде всего, это яркая критика мещанства. Никто до и после Ницше с такой прозорливостью не смог предвидеть всю опасность общества маленьких, серых, покорных людей.
Это, кроме того, неприятие социальной системы, построенной либо на безмерном подчинении какой-либо одной идеологии, либо на принципах утилитаризма и прагматизма, где обесценено главное - личность, ее индивидуальность и неповторимость. Это идея возвышения человека, преодоление всего мелочного, обыденного, незначительного для жизни. Многие категории нравственного учения Ницше вошли в философско-этическую науку и в наш обыденный язык: "переоценка ценностей", "Сверхчеловек", то есть "которых слишком много"; "человеческое, слишком человеческое"; мораль "по ту сторону добра и зла".
В советской философской науке существовал один ответ на вопрос о гуманности учения Ницше негативный. Безусловно, учение Ницше противоречиво, потому и не может быть оценено как только негативное или только позитивное. Ницше заставляет думать, сравнивать, размышлять.
Главной позитивной ценностью нравственного учения Ницше, без сомнения, является идея возвышения человека. Ницше с полным правом можно было бы назвать исследователем антропологического метода в философии. В своих нравственных оценках он стремился идти от индивида. Причем сам индивид рассматривался им как бесконечно становящаяся ценность, как процесс, как неисчерпаемость. По Ницше, человечество - это целостность, проявляющаяся через различие. Но абсолютизация неординарности приводила Ницше к парадоксальным выводам. Впрочем, любая абсолютизация приводит к крайностям и в познании и, что всего печальнее, в социально нравственной практике.
Одним из аспектов философского учения Ницше является критика христианской морали. Отметим, что здесь Ницше занимал весьма оригинальную позицию. Он считал, что религия формирует зависимое, несамостоятельное сознание, смирение, несвободу человека. Для Ницше религия стала символов зависимого "несчастного" сознания.
Конечно же, содержание и практику христианского учения нельзя свести к подобному его толкованию. Но тем не менее, эта точка зрения немецкого мыслителя очень актуальна сегодня. Весьма распространенным является мнение о том, что религия едва ли не единственная нравственная спасительница России: только она способна дать человеку подлинный подъем духа; только она "скрепляет нацию"; она "наиболее действенное средство массового воспитания морали", так как она "дает общедоступное представление о сверхнациональном абсолюте, без которого мораль не существует". Трудно сказать, что больше в этом признании: или потребности в "сверхнациональном абсолюте", или снисходительной заботы о человеке из "массы", который только благодаря религии сможет стать нравственным? Ницше верил в возможности самого человека - единственного творца и самого себя, и своей истории.
"УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ МЕНЯ МОЖНО ПОНИМАТЬ, - А ТОГДА УЖ ПОНИМАТЬ С НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ, - МНЕ ОНИ ИЗВЕСТНЫ ДОСКОНАЛЬНО, ДОПОДЛИННО. НЕОБХОДИМО В ДЕЛАХ ДУХА ЧЕСТНОСТЬ И НЕПОДКУПНОСТЬ, И НЕОБХОДИМО ЗАКАЛИТЬСЯ В НИХ, - ИНАЧЕ НЕ ВЫДЕРЖИШЬ СУРОВЫЙ НАКАЛ МОЕЙ СТРАСТИ. НУЖНО СВЫКНУТЬСЯ С ЖИЗНЬЮ НА ВЕРШИНАХ ГОР, - ЧТОБЫ ГЛУБОКО ПОД ТОБОЙ РАЗНОСИЛАСЬ ЖАЛКАЯ БОЛТОВНЯ О ПОЛИТИКЕ, ОБ ЭГОИЗМЕ НАРОДОВ. НУЖНО СДЕЛАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ И НЕ ЗАДАВАТЬСЯ ВОПРОСОМ О ТОМ, ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА ОТ ИСТИНЫ, НЕ ОКАЖЕТСЯ ЛИ ОНА РОКОВОЙ ДЛЯ ТЕБЯ... НУЖНО, КАК ТО СВОЙСТВЕННО СИЛЬНОМУ, ОТДАВАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ В НАШИ ДНИ НИКТО НЕ ОСМЕЛИВАЕТСЯ СТАВИТЬ; НЕОБХОДИМО МУЖЕСТВО, ЧТОБЫ СТУПИТЬ В ОБЛАСТЬ ЗАПРЕТНОГО; НЕОБХОДИМА ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ - К ТОМУ, ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАТЬ В ЛАБИРИНТЕ. И СЕМИКРАТНЫЙ ОПЫТ ОДИНОЧЕСТВА. И НОВЫЕ УШИ ДЛЯ НОВОЙ МУЗЫКИ. И НОВЫЕ ГЛАЗА СПОСОБНЫЕ РАЗГЛЯДЕТЬ НАИОТДАЛЕННЕЙШЕЕ. НОВАЯ СОВЕСТЬ, ЧТОБЫ РАССЛЫШАТЬ ИСТИНЫ, ПРЕЖДЕ МОЛЧАВШИЕ. И ГОТОВНОСТЬ ВЕСТИ СВОЕ ДЕЛО В МОНУМЕНТАЛЬНОМ СТИЛЕ - ДЕРЖАТЬ В УЗДЕ ЭНЕРГИЮ ВДОХНОВЕНИЯ... ПОЧИТАТЬ СЕБЯ САМОГО; ЛЮБИТЬ СЕБЯ САМОГО; БЫТЬ БЕЗУСЛОВНО СВОБОДНЫМ В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ САМОГО. "
Непознанное

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома
Домашний очаг

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома
Государство