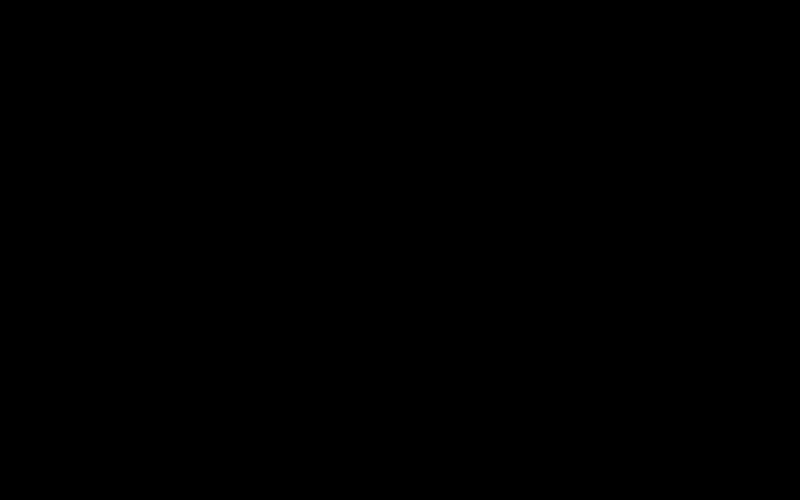Ипполит Федорович Богданович вошел в историю русской литературы как автор «Душеньки» 1783, которая узаконила еще один вариант русской поэмы: волшебно-сказочный. Дальнейшее развитие этого жанра выражалось в замене античного содержания образами, почерпнутыми из национального русского фольклора. «Душенька» стоит на периферии русского классицизма, с которым она связана античным сюжетом и некоторой назидательностью повествования.
Приятно рассмеялась Хлоя Не для похвал себе пою;
Сюжет «Душеньки» восходит к древнегреческому мифу о любви Купидона и Психеи, от брака которых родилась богиня наслаждения. Эту легенду в качестве вставной новеллы включил в книгу «Золотой осел» римский Апулей. В конце XVII в. произведение «Любовь Психеи и Купидона», написанное прозой со стихотворными вставками, опубликовал французский писатель Жан Лафонтен. В отличие от своих предшественников, Богданович создал свое стихотворное произведение, полностью отказавшись от прозаического текста.
Сюжет «Душеньки» - сказка, широко распространенная у многих народов,- супружество девушки с неким фантастическим существом. Муж ставит перед супругой строгое условие, которое она не должна нарушать. Жена не выдерживает испытания, после чего наступает длительная разлука супругов. Но в конце концов верность и любовь героини приводит к тому, что она снова соединяется с мужем. В русском фольклоре один из образцов такой сказки - «Аленький цветочек». Богданович дополнил сказочную основу выбранного им сюжета образами русской народной сказки. К ним относятся Змей Горыныч, Кащей, Царь-Девица, в ней присутствует живая и мертвая вода, кисельные берега, сад с золотыми яблоками. Греческое имя героини - Психея - Богданович заменил русским словом Душенька. В отличие от героических поэм типа «Илиады», «Душенька» служила чисто развлекательным целям:
«Душенька» написана в стиле рококо, популярном в аристократическом обществе XVIII в. Его представители в живописи, скульптуре, поэзии любили обращаться к античным мифологическим сюжетам, которым они придавали кокетливо-грациозный эротический . Постоянными персонажами искусства рококо были Венера, Амур, Зефир, Тритон и т. п. Во французской живописи XVIII в. наиболее известными представителями рококо были А. Ватто и Ф. Буше. Белинский объяснял популярность «Душеньки» именно особенностями ее стиха и языка. «Представьте себе,- писал он,- что вы оглушены громом, трескотнёю пышных слов и фраз: И вот в это-то время является человек со сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым: Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки» . Вместе с тем она расширила границы самого жанра поэмы. Богданович первый предложил образец сказочной поэмы. За «Душенькой» последуют «Илья Муромец» Карамзина, «Бова» Радищева, «Альоша Попович» Н. А. Радищева, « и Мстислав» Востокова и, наконец, « » Пушкина.
Но чтоб в часы прохлад, веселья и покоя
Шутливая манера повествования сохраняется по отношению ко всем героям поэмы, начиная с богов и кончая смертными. Античные божества подвергаются в поэме легкому травестированию, но оно лишено у Богдановича грубости и непристойности майковского «Елисея». Каждый из богов наделен чисто человеческими слабостями: Венера - высокомерием и мстительностью, Юпитер - чувственностью, Юнона - равнодушием к чужому горю. Не лишена известных недостатков и сама Душенька. Она доверчива, простодушна и любопытна. От античных и классицистических героических поэм «Душенька» отличается не только содержанием, но и метрикой. Первые писались гекзаметром, вторые - александрийским стихом. Богданович обратился к разностопному ямбу с вольной рифмовкой.
Центральным, лучшим произведением Богдановича, доставившим ему славу, была «Душенька». Она создавалась в ту пору, когда Богданович не стал еще окончательно «шинельным» поэтом, но когда начался уже его отход от передовых взглядов и стремлений его молодости. Богданович писал ее в середине, вернее, во второй половине 1770-х годов. Первая «книга» поэмы была издана в 1778 г. (с названием «Душенькины похождения»); следует думать, что остальные части поэмы не были еще тогда готовы. Полностью поэма вышла в свет только в 1783 г. (Богданович производил стилистическую правку текста поэмы и в последующих изданиях ее – 1794 и 1799 гг.). Переходное состояние творчества Богдановича наложило свой отпечаток на его поэму.
«Душенька» выросла на основе стилистической традиции школы Хераскова; она многим обязана и стилистике басни (самый стих поэмы, разностопный ямб, связывал ее с басней), и опыту легкого рассказа повестушек в стихах Хераскова, и отчасти героикомической поэме. Свободная речь рассказчика укладывается в привычные формулы, выработанные поэзией школы Хераскова. Но поэтическая система, воспринятая Богдановичем смолоду, в его поэме начинает перестраиваться, служить иным идеологическим и эстетическим задачам.
«Душенька», как и героикомические поэмы, снижает царей, богов и героев античного мира, но она не «груба», в ней нет своеобразного реализма «Елисея», нет «низкой» натуры, нет ямщиков-мужиков. Богданович стремится в «Душеньке» к изяществу салонной игривости, как он стремится к пасторальной изысканности придворного балета в своей любовной лирике (песнях, идиллиях). Самая эротика его поэмы иная, чем в «Елисее», – не полнокровная полубарковщина «Елисея», а гривуазность салонного флирта.
«Душенька», как и поэма Майкова, несмотря на свой мифологический сюжет, не лишена полемических выпадов литературного характера и вообще элементов злободневности, нарушающих ее античную декорацию. Но Богданович хочет быть «аполитичным» в своей поэме, т.е. воздерживается от социальной и политической критики и учительности. В канву рассказа о древних греках вплетаются мотивы великосветской современности. Греческие персонажи неприметно превращаются у Богдановича в вельмож или царей его эпохи, и окружение их подменяется окружением петербургского или царскосельского дворцового празднества. Описание очарованного дворца Амура становится прославлением дворцов и парков российской самодержицы. Античный миф дается не всерьез, а в травестированном виде, в тонах безобидной шутки дамского угодника и льстеца. Весь аппарат образов и мифологии Богдановича связывается с представлениями о балетах, праздниках, о живописи и скульптуре, украшавших дворец.
Сама героиня поэмы нередко становится похожей на комплиментарный портрет Екатерины II (см., например, описание портрета Душеньки во II книге, напоминающее известный портрет Екатерины верхом на лошади). Богданович включает в поэму и комплиментарный намек на московский маскарад 1763 г. «Торжествующая Минерва» и намек на организацию на счет Екатерины «Собрания, старающегося о переводе иностранных книг». Душенька стала читать:
…переводы
Известнейших творцов;
Но часто их она не разумела,
И для того велела
Исправным слогом вновь Амурам
перевесть,
Чтоб можно было их без тягости
прочесть.
Зефиры, наконец, царевне приносили
Различные листки, которые на свет
Из самых древних лет
Между полезными предерзко
выходили,
И кипами грозили
Тягчить усильно Геликон.
Царевна, знав, кому неведом был
Листомарателей свобод не нарушала,
Но их творений не читала.
В таком издевочно-игривом тоне говорит Богданович (в последних стихах приведенного отрывка) о борьбе прогрессивной журналистики с официальной в 1769-1773 гг. «Различные листки», которые «предерзко выходили», – это, конечно, сатирические листки Новикова и т.п., а «полезные» листки, выходившие тогда же, – само собой, «Всякая всячина».
Салонный стиль «Душеньки» поглощает без остатка мысль, лежавшую в основе античного мифа об Амуре и Психее, о любви души (???? - по-гречески – душа; отсюда и имя героини Богдановича). Богданович следовал в своей поэме изложению не Апулея в его «Золотом осле», а роману Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона» (1669), написанному прозой со стихотворными вставками. Но Лафонтен, стремясь к предельной простоте рассказа, задавался целью воссоздать дух античности, как он ее понимал. Богдановича не интересуют ни античность, ни миф сами по себе. Он пишет изящную сказку, и его задача – увести читателя от больших и серьезных проблем в светлый, веселый мир шутки, легких чувств, безобидных горестей, розового света. Поэтому вся его поэма от начала до конца шутлива, иронична. Он низвергает своей усмешкой все идейные кумиры. Он смеется над людьми и над богами, над любовью и над страданием, над Венерой и даже иной раз над самой Душенькой. При этом его смех – не сатирический смех отрицающего сознания; это смех спокойный и безразличный. Богданович не верит больше ни в какие идеалы: он верит только в смех, в возможность забыться, в то, что можно заполнить эстетизмом пропасть в душе, заменить улыбкой, позой и любованием фикциями настоящую жизнь.
Вот, например, царь, отец Душеньки, в глубоком горе расстается с дочерью, которую он принужден оставить на таинственной горе в добычу неизвестному чудищу:
И напоследок царь, согнутый скорбью в крюк,
Насильно вырван был у дочери из рук.
Так же легко и шуточно изображены мифологические божества, например, Амуры услужают Душеньке:
Иной во кравчих был, другой носил посуду,
Иной уставливал, и всяк совался всюду;
И тот считал себе за превысоку честь,
Кому из рук своих домова их богиня
Полрюмки нектару изволила поднесть.
И многие пред ней стояли рот разиня:
Хоть Амуры в том,
По правде, жадными отнюдь не почитались,
И боле нежели вином
Царевны зрением в то время услаждались.
Совсем забавно рассказано в поэме о том, как Душенька, изгнанная из дворца Амура, решилась окончить жизнь самоубийством, – но неудачно, так как заботливое божество отстраняло от нее все виды смерти. Наконец, Душеньку встретил старик-рыбак:
Но кто ты старец, воспросил.
“Я Душечка… люблю Амура…”
Потом заплакала, как дура,
Потом, без дальних с нею слов,
Заплакал вместе рыболов,
И сней взрыдала вся Натура.
Так забавляют Богдановича самые слезы.
Богданович шел иным путем, чем Муравьев, но он пришел, в сущности, к тому же; Муравьев говорил, что сладостные красоты искусства – это то, «что создал бог для украшения пустой вселенной». Этим украшением и занимается Богданович; и для него все равно – комплиментировать ли Екатерину или нет. Для него его поэма – только сказка, игра опустошенного ума, «легкая игра воображения», как определил «Душеньку» Карамзин, и все образы сказки для него безразличны, равно фиктивны, равно иллюзорны.
Поэтому Богданович вспоминает о морали своей сказки, о смысле ее сюжета только тогда, когда пришло время уже кончать ее; Поэтому он так мало занят сюжетом мифа и больше всего уделяет места и искусства описаниям очаровательного мечтательного мира сказки, блаженных садов и т.п. Поэтому, хотя он иногда довольно близко следует за изложением Лафонтена, он создает оригинальное произведение, потому что стиль, детали, тон – все у него свое, а в стиле, деталях и тоне весь смысл поэмы как выражения эстетизма упадочнического толка. Читатель, уже имевший в то время в руках в русском переводе и роман Апулея (перевод Е.И. Кострова, 1780), и роман Лафонтена (перевод Ф. Дмитриева-Мамонова, 1769), мог без труда увидеть сам различие трактовки единого сюжета у всех трех писателей.
Таким образом, стремление Богдановича к изяществу и легкости во что бы то ни стало, его эстетизм явились проявлением глубокого кризиса дворянского самосознания и литературы. В то же время в «Душеньке» Богданович не опустился в то болото пошлости, в которое его втянули потом его официальные связи и успехи. В этом своем шедевре он еще был мастером стиха, искусство которого выросло на основе традиции, шедшей от Сумарокова через творчество Хераскова и всей его школы. Наряду с «Россиадой» и «Душенька» в отношении мастерства, слога и стиха была предельным достижением этой школы, причем Богданович использует весь накопленный за четверть века опыт своих учителей в специфическом направлении – именно в целях создания легкой, свободной поэтической речи. Освобождая свое искусство от задач активной общественной борьбы, он сосредоточивается на разрешении задач выразительной гибкости языка, на всем протяжении поэмы сохраняя камерный, интимно-разговорный тон, не поднимаясь к величию «Россиады» и не опускаясь до «простонародной» грубоватости сумароковских басен. Этот «средний», сглаженный, несколько жеманный язык стихотворства, впервые разработанный в большой форме Богдановичем, сыграл большую роль в истории русского словесного искусства. Он оказал немалое влияние на Карамзина и на Дмитриева, он подготовил «легкую» поэзию начала XIX века вплоть до Батюшкова, недаром высоко ценившего «Душеньку».
Богданович научил русских поэтов передавать стихами весьма тонкие оттенки темы, создавать изящные узоры-картины, не реальные, но не чуждые эмоционального обаяния. Прямолинейная четкость анализа Сумарокова уступает в «Душеньке» место созданию общего синтетического представления, не «разумного», но стремящегося воздействовать на фантазию. Богданович создает в «Душеньке» особый язык поэзии, поэтичности, эстетического самоуслаждения, язык «приятности»; оттого у него так часты слова вроде «прелестный», «нежный», «украдкою», «благоприятный», «сладкий»; оттого он ищет благозвучной, уравновешенной фразы с изящной отделкой. Вся эта эфемерная стихия поэтического изящества не имеет никакого касательства к полнокровной стихии народного искусства. Богданович и не стремится, творя сказку, писать русскую сказку. Но он пользуется некоторыми русскими мотивами, если они нужны ему как материал, включаемый в космополитическую ткань «легкой» поэзии изысканных салонных интеллигентов. Поэтому в «Душеньке» есть и «Змей Горынич», и Кащей, правда, нимало не похожие на настоящих сказочных, – и стоят они рядом с Аполлоном, Дианой, Парисом; есть в ней и сарафан рядом с мраморными статуями, колесницей, оракулом, благовонными мылами и т.д. Для Богдановича и Кащей, и Аполлон, и оракул, и сарафан, и сказка, и миф, и пародия на подьяческий протокол, и шутка, и слова любви – все в мире потеряло свое подлинное значение: для него существует только мечта о красоте, о легких фантазиях, спасающих от реальности.
Белинский писал в «Литературных мечтаниях» о «Душеньке»:
«Подражатели Ломоносова, Державина и Хераскова оглушили всех громким одолением; уже начинали думать, что русский язык не способен к так называемой легкой поэзии, которая так цвела у французов, и вот в это-то время является человек с сказкою, написанною языком простым, естественным и шутливым, слогом, по тогдашнему времени, удивительно легким и плавным; все были изумлены и обрадованы. Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки», которая, впрочем, не без достоинств, не без таланта». Впрочем, уже в статье «Русская литература в 1841 году» Белинский называл «Душеньку» «тяжелою и неуклюжею», а еще раньше, в заметке о «Душеньке» (1841), писал: «Что же такое в самом-то деле эта препрославленная, эта пресловутая «Душенька»? – Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами… лишенная всякой поэзии, совершенно чуждая игривости, грации, остроумия».
И.Ф. Богданович, работая над текстом своей поэмы «Душенька» (1-я ред. - 1783), как известно, опирался на достаточно широко распространенный в мировой литературе и фольклоре сюжет (№№ 425 и 428 по классификации Аарне - Томпсона), который до него разрабатывал, в частности, Ж. де Лафонтен в своей повести «Любовь Психеи и Купидона» (1669). Именно это сочинение французского писателя стало, по признанию самого Богдановича и единодушному мнению исследователей, отправной точкой в процессе создания «Душеньки».
По сравнению с «Любовью Психеи и Купидона» Лафонтена, Богданович вносит в текст своего произведения определенные, более или менее существенные коррективы, затрагивающие различные уровни и пласты поэмы, в том числе и ее сюжетно-композиционное оформление. Как и первый русский переводчик лафонтеновской повести Ф.И. Дмитриев-Мамонов, он сохраняет только фабульную линию французского первоисточника, отказываясь от заимствования каких-либо элементов его обрамляющей части. Исследователями было выдвинуто несколько основных предположений, касающихся игнорирования Богдановичем интеллектуально-эстетического обрамления лафонтеновского текста. По мнению Г.Н. Ермоленко, это было связано прежде всего с изменением жанровой природы литературного произведения: «Богданович, естественно, не мог в жанре поэмы воспроизвести все черты сложного романного повествования. Он значительно упрощает сюжет, опускает многие сцены, имеющие подчеркнуто «романный характер», посвященные рассуждениям на философские темы, спорам по вопросам эстетики, опускает многие детали и тонкости психологического анализа» (Ермоленко Г.Н. Русская комическая поэма XVIII - начала XIX вв. и ее западноевропейские параллели. Смоленск, 1991. С.40). Т.В. Саськова, в свою очередь, полагает, что «перестройка всей образной системы, изменение ее характера связаны… с корректировкой художественного задания, повлекшей трансформацию центральных персонажей и художественных принципов их раскрытия» (Саськова Т.В. Пастораль в русской поэзии XVIII века. М., 1999. С.131). С точки зрения этой исследовательницы, Богданович привнес в текст поэмы «масонский круг идей, повлиявших, в частности, на переосмысление образа Амура и придавших похождениям Душеньки, ее испытаниям специфический метафизический подтекст с аллюзиями на масонские посвящения» (Там же. С.134). Несколькими годами ранее подобные же мысли высказывал и В.И. Сахаров, отмечавший наличие в «Душеньке» Богдановича «масонского слоя идей и образов» (Сахаров В.И. Русская масонская поэзия XVIII века: К постановке проблемы // Русская литература, 1995, № 4. С.17).
Как известно, в течение некоторого времени (до 1774 г.) этот русский поэт входил в состав петербургской масонской ложи Девяти муз и даже являлся ее церемониймейстером; кроме того, многие из его друзей и близких знакомых также состояли в братстве Вольных каменщиков (М.М. Херасков, А.А. Ржевский, Н.И. Панин и др.), занимая в нем достаточно высокое положение. Однако, хотя идеология отечественных масонов весьма существенно повлияла на раннее творчество Богдановича (поэма «Сугубое блаженство», лирика 1760 - 1763 гг.), уже во второй половине 70-х гг. XVIII в. этот автор все более отдаляется от неугодных императрице и поэтому довольно опасных масонских воззрений (во всяком случае - от их непосредственного выражения), стремясь к постепенному сближению с правительственными кругами. Создавая «Душеньку», писатель, оказавшийся в это время в чрезвычайно сложном во всех отношениях положении, безусловно, рассчитывал на благосклонную реакцию со стороны Екатерины II, о чем, в частности, свидетельствуют его многочисленные комплименты в адрес российской самодержицы и полемические выпады против ее соперников по журнально-литературной борьбе конца 1760-х - 1770-х гг., неоднократно встречающиеся в тексте поэмы.
Согласно концепции В.И. Сахарова и Т.В. Саськовой, масонская символика проявляется в целом ряде эпизодов и художественных образов «Душеньки»: в описании храма Венеры и окружающей его местности, в словах и поступках главных действующих лиц произведения, а также в отдельных ассоциативных параллелях, возникающих в сознании «посвященного» читателя. Так, например, в связи с указанной проблематикой Т.В. Саськова замечает: «Строгость клятвы, запреты высших сил, символика света / тьмы, сна / яви, совпадение ключевых сюжетных мотивов и вещных образов с важнейшими масонскими мифологемами (светильник, меч, грот), мотив сложных задач, служения как инициального испытания <…> всё это составляющие масонского комплекса, воплощенного в поэме» (Саськова Т.В. Апулей, Лафонтен, Богданович: Художественно-философские интерпретации мифа // Философские аспекты культуры и литературный процесс в XVII столетии: Материалы конференции / Под ред. А.А. Скакуна и др. СПб., 1999. С.76). С точки зрения В.И. Сахарова, даже сам сюжет «Душеньки» является типичным для русской масонской литературы: «…В поздней поэме Богдановича есть ставшая у масонов общим местом дидактическая аллегория о рае, <…> говорится о первоначальном счастье гармоничного человека, жившего в любви и понимании с божеством и затем впавшего в грех и соблазн, изгнанного из блаженной страны богов в пустыню, о пути испытаний, борьбе за потерянное счастье и новую гармонию» (Сахаров В.И. Указ. соч. С.17).
Принимая во внимание изложенные выше аргументы и доказательства специалистов, мы, тем не менее, полагаем, что характер и степень представленности «масонского слоя идей и образов» (В.И. Сахаров) в «Душеньке» Богдановича чрезмерно абсолютизируются этими исследователями. Как уже упоминалось нами ранее, русский поэт возлагал большие и вполне определенные надежды на успех своего произведения у императрицы, поэтому он едва ли мог решиться на прямое или косвенное выражение в тексте «Душеньки» каких-либо оппозиционных по отношению к Екатерине II философский и политических взглядов. Кроме того, многочисленные примеры образов и мотивов, встречающихся в поэме Богдановича и приводимых указанными литературоведами в качестве атрибутов «масонской обрядовости» (Т.В. Саськова), на самом деле отнюдь не являются нововведениями этого писателя. В частности, описание безмятежной и сладостной жизни обитателей местности, окружающей храм Венеры, Богданович заимствует непосредственно из повести Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона», при этом стилизуя его в духе русских народных сказок; перу французского автора принадлежит также барочно-классицистический образ грота как идеального места для размышлений и уединенного отдыха, вполне адекватно воспринятый Богдановичем и воплощенный в тексте его поэмы. Помимо этого, упоминаемые исследователями как «масонские» образы меча и светильника в данном случае присутствуют во всех трех произведениях - у Апулея, Лафонтена и Богдановича, а мотивы запрета, клятвы, различных испытаний не только свойственны древнейшему сюжету об Амуре и Психее, но и принадлежат к числу одних из самых распространенных, фольклорно-архетипических элементов мировой культуры.
Таким образом, становится очевидным, что «Душенька» Богдановича является столь же «масонским» сочинением, как и произведения Апулея, Лафонтена, а также многие народные сказки; по всей видимости, было бы целесообразнее говорить о наличии определенных типологических схождений между текстом этой поэмы и системой масонской ритуальной символики, проявляющихся на уровне основных сюжетных мотивов и образов. Вместе с тем необходимо признать, что при описании ответа Амура Душеньке, желавшей заставить мужа раскрыть свою тайну, Богданович, по справедливому наблюдению Т.В. Саськовой, действительно прибегает к использованию характерной масонской терминологии:
Однако обозначенные в процитированных выше строках элементы сакрального, масонского поведения ни в коем случае не следует воспринимать буквально, в качестве доказательства принадлежности поэмы Богдановича к произведениям масонской литературы. Масонские клятвы и ритуалы, соблюдаемые Амуром, не восхваляются, а пародируются русским писателем, симпатии которого находятся в данном случае всецело на стороне Душеньки, открыто высмеивающей их мистическую сущность:
Тем самым главная героиня поэмы, нередко напрямую ассоциирующаяся с Екатериной II (особенно во второй части произведения, в которой описывается жизнь Душеньки во дворце Амура), не просто полемизирует с масонской идеологией, а активно противодействует ей, убеждая своего мужа следовать не абстрактным «уставам вышней власти», а велениям собственного сердца:
Любопытно, что Амур Богдановича, в отличие от одноименного персонажа лафонтеновской повести, отстаивает не столько платонические воззрения, сколько философские взгляды стоиков, разделяемые представителями русского масонства (подробнее об этом см.: Аржанухин С.В. Философские взгляды русского масонства: по материалам журнала «Магазин свободнокаменщический». Екатеринбург, 1995. С.96 - 97). В то же время Душенька, как и Психея Лафонтена, по-прежнему является сторонницей эпикуреизма (то есть течения, оппозиционного по отношению к масонскому неостоицизму), хотя и не принимает активного участия в интеллектуально-философских диспутах. Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно предположить, что уже к началу 1780-х гг. Богданович существенно скорректировал свою идейно-нравственную и гражданскую позицию, окончательно отдалившись от последователей масонской идеологии и перейдя на сторону правительства. Критика религиозно-философских взглядов и ритуалов отечественного масонства, имплицитно выраженная в тексте его поэмы, красноречиво подтверждает справедливость указанного предположения.
Издание конторы привилегированной типография Е. Фишера, в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург. 1841. В 12-ю д. л. 73 стр.
"Душенька" имела в свое время успех чрезвычайный, едва ли еще не высший, чем трагедии Сумарокова, комедии Фонвизина, оды Державина, "Россиада" Хераскова. Пастушеская свирель Богдановича очаровала слух современников сильнее труб и литавр эпических поэм и торжественных од; миртовый венок его был обольстительнее лавровых венков наших Гомеров и Пиндаров того времени. До появления в свет "Руслана и Людмилы" наша литература не представляет ничего похожего на такой блестящий триумф, если исключить успех "Бедной Лизы" Карамзина. Все поэтические знаменитости пустились писать надписи к портрету счастливого певца "Душеньки", а когда он умер, - эпитафии на его гробе. Один Дмитриев, в свое время поэтическая знаменитость первой величины, написал три такие эпитафии; вот они;
Привесьте к урне сей, о грации! венец:
Здесь Богданович спит, любимый ваш певец.
В спокойствии, в мечтах текли его все лета,
Но он внимаем был владычицей полсвета,
И в памяти его Россия сохранит.
Сын Феба! возгордись: здесь муз любимец спит.
На урну преклонясь вечернею порою,
Амур невидимо здесь часто слезы льет,
И мыслит, отягчен тоскою,
Кто Душеньку теперь так мило воспоет?
Кажется, родной брат Богдановича написал следующее, славное в свое время двоестишие к творцу "Душеньки":
Зефир ему перо из крыл своих давал,
Амур водил пером, он "Душеньку" писал.
Батюшков воспел Богдановича в своем прекрасном послании к Жуковскому "Мои пенаты", вместе с другими знаменитостями русской литературы:
За ними Сильф прекрасный,
Воспитанник Харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке брепчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет.
Карамзин написал разбор "Душеньки", в котором силился доказать, что Богданович победил Лафонтсна, забыв, что сказка Лафонтена если писана и прозою, то прозою изящною, на языке уже установившемся, без усечений, без насильственных ударений, что у Лафонтена есть и наивность, и остроумие, и грация, столь сродственные французскому гению.
Что же такое в самом-то деле эта препрославленная, эта пресловутая "Душенька"? - Да ничего, ровно ничего: сказка, написанная тяжелыми стихами, с усеченными прилагательными, натянутыми ударениями, часто с полубогатыми и бедными рифмами, сказка, лишенная всякой поэзии, совершенно чуждая игривости, грации, остроумия. Правда, автор ее претендовал и на поэзию, и на грацию, и на остроумную наивность, или наивное остроумие; но все это у него поддельно, тяжело, грубо, часто безвкусно и плоско. Выпишем для примера хоть то место, где Душенька подходит к спящему Амуру, с светильником в руке и с мечом под полою:
Тогда царевна осторожно,
Встает толь
тихо как возможно.
И низу, по тропе златой,
Едва касаяся пятой,
Выходит в некий
покой,
Где многие от глаз преграды
Скрывали меч и свет лампады.
Потом с лампадою в руках,
Идет назад, на всякий страх,
И с воображением печальным,
Скрывает меч под платьем спальным;
Идет, и медлит на пути,
И ускоряет вдруг ступени,
И собственной боится тени,
Боится змея там найти.
Меж тем в чертог супружний входит.
Но кто представился ей там?
Кого она в одре находит?
То был... но кто?.. Амур был сам.
Сей бог, властитель всей натуры,
Кому покорны все амуры.
Он в крепком сне, почти нагой,
Лежал, раскинувшись в постеле,
Покрыт тончайшей пеленой,
Котора
сдвинулась долой,
И частью лишь была на теле.
Склонив лицо ко
стороне,
Простерши руки обоюду,
Казалось будто бы во сне
Он Душеньку искал повсюду.
Румянец розы на щеках,
Рассыпанный поверх лилеи,
И белы
кудри в трех рядах,
Вьючись
вокруг белейшей шеи,
И склад, и нежность всех частей,
В виду, во всей красе своей,
Иль кои
крылися от вида,
Могли унизить Аонида,
За коим некогда, влюбись,
Сама Венера, в дождь и в грязь,
Бежала в дикие пустыни,
Сложив величество богини.
Таков открылся бог Амур,
Таков иль был тому подобен,
Прекрасен, бел и белокур,
Хорош, пригож, к любви способен,
Но в мыслях вольных без препятств.
За сими краткими чертами
Читатели представят сами,
Каков явился бог приятств
И царь над всеми красотами.
Увидя Душенька прекрасно
божество
На место аспида, которого боялась,
Видение сие почла за колдовство,
Иль сон, или призрак,
и долго изумлялась;
И видя наконец, как каждый видеть мог,
Что был супруг ее прекрасный самый бог,
Едва не кинула лампады и кинжала,
И, позабыв тогда свою приличну стать,
Едва не бросилась супруга обнимать,
Как будто б никогда его не обнимала.
Но удовольствием жадающих очей
Остановлялась тут стремительность любовна;
И Душенька тогда, недвижна и бессловна,
Считала ночь сию приятней всех ночей.
Она не раз себя в сем диве обвиняла,
Смотря со всех сторон, что только зреть могла,
Почто
к нему давно с лампадой не пришла,
Почто
его красот заране
не видала;
Почто
о боге сем в незнании была
И дерзостно его за змея почитала.
Впоследок царска
дочь,
В сию приятну
ночь
Дая
свободу взгляду.
Приближилась, потом приближала лампаду,
Потом нечаянной бедой,
При сем движении, и робком и несмелом,
Держа огонь над самым телом,
Трепещущей рукой
Небрежно над бедром лампаду наклонила
И, масла часть
пролив оттоль,
Ожогою бедра
Амура разбудила,
Почувствовав жестоку
боль,
Он вдруг вздрогнул, вскрпчал, проснулся,
И, боль свою забыв, от света ужаснулся;
Увидел Душеньку, увидел также меч,
Который из-под плеч
К ногам тогда сколъзнулся;
Увидел он вины,
Или признаки
вин зломышленной жены;
И тщетно тут желала
Сказать несчастья все сначала,
Какие в выправку
сказать ему могла.
Слова в устах остановлялись:
И свет и меч
в винах
уликою являлись,
И Душенька тогда, упадши,
обмерла.
Сиречь "сомлела"; - и поделом ей! Мы нарочно не поскупились на выписку: пусть читатели сами судят по этому отрывку, какого труда и поту стоит прочесть поэму, писанную такими милыми стишками и преисполненную такой легкой, очаровательной и грациозной поэзии...
"Душенька" Богдановича ведет свое начало от высокого эллинского мифа о сочетании души с любовью, то есть о проникновении духовным началом естественного влечения полов: на этот раз из чистого и глубокого источника вытекла мутная лужица воробью по колено. Конечно, нельзя винить Богдановича за то, что ему не могла и в голову войти подобная мысль: об этих премудростях и в самой Германии очень незадолго до его времени начали догадываться; не виним его также за отсутствие художественного такта, пластичности и наивной грациозности древних: он не был ни художником, ни поэтом, ни даже особенно талантливым стихотворцем, да в его время о художественности и пластицизме древних и сами немцы только что начинали догадываться, а вся остальная Европа жила в идее остроумия; но ведь остроумие должно же быть остроумно, а не плоско; шалость должна же быть игрива, грациозна, чтоб не оскорблять эстетического вкуса...
Почему же "Душенька" Богдановича имела такой блестящий успех? - Мы первые согласны в том, что всякий блестящий успех всегда основывается если не на достоинстве, то на какой-нибудь основательной причине; и мы убеждены, что успех "Душеньки" был вполне заслуженный, так же как и успех "Бедной Лизы". Это очень легко объяснить. Громкие оды и тяжелые поэмы всех оглушали и удивляли, но никого не услаждали, - и потому все мечтали о какой-то "легкой поэзии", вероятно, разумея под нею салонную французскую беллетристику. И вот является человек, который для своего времени пишет просто и легко, даже забавно и игриво, силится ввести в поэзию комический элемент, высокое смешать с смешным, как это есть в самой действительности, реторику поддельного эмфаза заменить реторикою поддельной наивности и остроумия, каким наградила его скупая природа. Естественно, что все приходит в восторг от такой невидали и небывальщины: должно было приглядеться к ней (а для этого нужно было время и время), чтобы увидеть ее незначительность и пустоту. И пригляделись; но тогда еще наши литературные авторитеты сокрушались медленно: их и не читали, а все-таки хвалили по преданию и ленивой привычке. И вот Батюшков, поэт с большим дарованием и с художественным тактом, бессознательно преклоняясь перед всемогущею тогда силой предания, воспел Богдановича, как любимца муз и грация, с которыми у певца "Душеньки" не было ничего общего. Ведь Дмитриев говорил же о Хераскове:
Пускай от зависти сердца зоилов ноют;
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья проведут.
Воейков (во время оно, тоже литературная и поэтическая знаменитость) провозглашал:
Херасков, наш Гомер, воспевший древни брани,
России торжество, падение Казани...
А теперь? - Увы! - Sic transit gloria mundi! [Так проходит мирская слава! (лат.) ]... Успеху "Душеньки" много способствовал и ее вольный, шаловливый тон, столь противоположный чопорности литературных приличий того времени. Этому же обстоятельству много обязаны были своим успехом и сказки Дмитриева "Причудница" и "Модная жена", которые, впрочем, по литературному достоинству гораздо выше "Душеньки". Однако ж поэма Богдановича все-таки замечательное произведение, как факт истории русской литературы: она была шагом вперед и для языка, и для литературы, и для литературного образования нашего общества. Кто занимается русскою литературою как предметом изучения, а не одного удовольствия, тому - еще более записному литератору - стыдно не прочесть "Душеньки" Богдановича. - Но безотносительных достоинств она не имеет никаких, и в наше время нет ни малейшей возможности читать ее для удовольствия.
А между тем "Душенька" до сих пор все печатается новыми изданиями; мелкие книжные торговцы сделали ее постоянным средством для своих спекуляций. И это очень понятно. У нас есть особый класс читателей: это люди, только что начинающие читать, вместе с переменою национального сермяжного кафтана на что-то среднее между купеческим длиннополым сюртуком и фризового шинелью. Обыкновенно они начинают с "Милорда английского" и "Потерянного рая" (неистовым образом переведенного прозою с какого-то реторического французского перевода), "Письмовника" Курганова, "Душеньки" и басен Хемницера, - этими же книгами и оканчивают, всю жизнь перечитывая усладительные для их грубого и необразованного вкуса творения. Потому-то эти книги и издаются почти ежегодно нашими сметливыми книжными торговцами.
Новое издание "Душеньки" очень скромно и ужасно безвкусно. Корректура неисправна. Приложений нет никаких.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) русский писатель, литературный критик, публицист, философ-западник.
Ипполит Федорович Богданович (1743-1803) вошел в историю русской литературы
поэмы: волшебно-сказочный. Дальнейшее развитие этого жанра выражалось в
замене античного содержания образами, почерпнутыми из национального русского
фольклора. «Душенька» стоит на периферии русского классицизма, с которым она
связана античным сюжетом к некоторой назидательностью повествования. Сюжет
«Душеньки» восходит к древнегреческому мифу о любви Купидона и Психеи, от
брака которых родилась богиня наслаждения. Эту легенду в качестве вставной
новеллы включил в книгу «Золотой осел» римский писатель Апулей. В конце XVII
в. произведение «Любовь Психеи и Купидона», написанное прозой со
отличие от своих предшественников, Богданович создал свое стихотворное
произведение, полностью отказавшись от прозаического текста.
Сюжет «Душеньки» - сказка, широко распространенная у многих народов, -
супружество девушки с неким фантастическим существом. Муж ставит перед
супругой строгое условие, которое она не должна нарушать. Жена не выдерживает
испытания, после чего наступает длительная разлука супругов. Но в конце
концов верность и любовь героини приводит к тому, что она снова соединяется с
мужем. В русском фольклоре один из образцов такой сказки - «Аленький
цветочек».
Богданович дополнил сказочную основу выбранного им сюжета образами русской
народной сказки. К ним относятся Змей Горыныч, Кащей, Царь-Девица, в ней
присутствует живая и мертвая вода, кисельные берега, сад с золотыми яблоками.
Греческое имя героини - Психея - Богданович заменил русским словом Душенька.
В отличие от героических поэм типа «Илиады», «Душенька», служила чисто
развлекательным целям.
Шутливая манера повествования сохраняется по отношению ко всем героям поэмы,
начиная с богов и кончая. смертными. Античные божества подвергаются в поэме
легкому травестированию, но оно лишено у Богдановича грубости и
непристойности майковского «Елисея». Каждый из богов наделен чисто
человеческими слабостями: - высокомерием и мстительностью, Юпитер -
чувственностью, Юнона - равнодушием к чужому горю. Не лишена известных
недостатков и сама Душенька. Она доверчива, простодушна и любопытна. От
античных и классицистических героических поэм «Душенька» отличается не только
александрийским стихом. Богданович обратился к разностопному ямбу с вольной
рифмовкой.
«Душенька» написана в стиле рококо, популярном в аристократическом обществе
XVIII в. Его представители в живописи, скульптуре, поэзии любили обращаться к
античным мифологическим сюжетам, которым они придавали кокетливо-грациозный
эротический характер. Постоянными персонажами искусства рококо были Венера,
Амур, Зефир, Тритон и т. п. Во французской живописи XVIII в. наиболее
известными представителями рококо А. Ватто и Ф. Буше. Белинский объяснял
популярность «Душеньки» именно особенностями, ее стиха и языка. «Представьте
себе, - писал он, - что вы оглушены громом, трескотнёю пышных слов и фраз...
И вот в это-то время является человек со сказкою, написанною языком простым,
естественным и шутливым... Вот причина необыкновенного успеха «Душеньки».
Вместе с тем она расширила границы самого жанра поэмы. Богданович первый
предложил образец сказочной поэмы. За «Душенькой» последуют «Илья Муромец»
Карамзина, «Бова» Радищева, «Альоша Попович» Н. А. Радищева, «Светлана и
Мстислав» Востокова и, наконец, «Руслан и Людмила» Пушкина.
Сентиментализм и его роль в развитии русской литературы, своеобразие
Эстетического идеала.
Поэзия М.Н. Муравьева. Жанровый состав, особенности стиля.
Во второй половине XVIII в. во многих европейских странах распространяется
новое литературное направление, получившее название сентиментализм. Его
появление было вызвано глубоким кризисом, который переживал феодально-
абсолютистский режим. В сентиментальной литературе нашло отражение настроение
широких слоев европейского общества. По идейной направленности сентиментализм
Одно из явлений Просвещения. Антифеодальный пафос его произведений особенно
четко выражается в проповеди внесословной ценности человеческой личности.
Лучшими образцами сентиментальной литературы были признаны «Сентиментальное
путешествие по Франции и Италии» Стерна, «Векфилдский священник» Голдсмита,
«Юлия, или Новая Элоиза» Руссо, «Страдания юного Вертера» Гете.
В отличие от классицистов, сентименталисты объявили высшей ценностью не
государство, а человека, потребностям которого, по их мнению, должны отвечать
государственные законы и учреждения. Несправедливым порядком феодального мира
просветители-сентименталисты противопоставляли вечные и разумные законы
природы. В связи с этим природа выступает в их произведениях не только как
объект созерцания и любования, но и как высшее мерило всех ценностей, в том
числе и самого человека. Официальным учреждениям абсолютистского государства
сентименталисты противопоставили союзы, основанные на природных, родственных
отношениях или взаимных симпатиях: семью и дружбу. В семье они видели самую
прочную социальную ячейку, а в хорошем домашнем воспитании ребенка - залог
его будущих гражданских добродетелей. Следующей ступенью формирования
общественного поведения человека считалась дружба, в которой главную роль
играет сходство взглядов, вкусов, убеждений.
Первостепенное место в представлениях сентименталистов занимают чувства, или,
как говорили в России в XVIII в., чувствительность. От этого слова (по-
французски sentiment) получило название и само литературное направление. В
отличие от классицизма, философской основой которого был рационализм,
сентиментализм опирался на сенсуалистическую философию английского ученого
Локка, объявившего отправной точкой познания - ощущения. Чувствительность
понимается сентименталистами не только как орудие познания, но и как область
эмоций, переживаний, как способность отзываться на радости и страдания других
людей, т. е. как основа общественной солидарности. В Словаре Академии
Российской, выпущенном в конце XVIII в., слово «чувствительность»
определялось как «качество трогающегося человека несчастиями другого».
Как и любой дар природы, чувствительность нуждается в воспитании и
руководстве со стороны родителей и наставников. На чувствительность влияет и
положение человека в обществе. Люди, привыкшие заботиться и думать не только
о себе, но и о других, сохраняют и развивают природную чувствительность; те,
кто огражден богатством или знатностью от труда и обязанностей, быстро
утрачивают ее, становятся грубыми и жестокими.
Политическое устройство общества также влияет на природу человека:
деспотическое правление убивает в людях чувствительность, ослабляет их
солидарность, свободное общество благоприятствует формированию социальных
эмоций. Чувствительность, по учению просветителей-сенсуалистов, - основа
«страстей», волевых импульсов, побуждающих человека к различным, в том числе
и общественным, действиям. Поэтому в лучших произведениях сентиментализма она
Не прекраснодушие, не слезливость, а драгоценный дар природы, определяющий
его гражданские добродетели.
Чувствительность лежит в основе и творческого метода писателей-
сентименталистов. Классицисты типизировали моральные качества людей,
создавали обобщенные характеры ханжи, скупца, хвастуна и т. п. Их интересовал
не конкретный, реальный человек, а черты, присущие типу. Главную роль у них
играл абстрагирующий разум писателя, вычленяющий однотипные психологические
явления и воплощающий их в одном персонаже.
Творческий метод сентименталистов покоится не на разуме, а на чувствах, на
ощущениях, отражающих действительность в ее единичных проявлениях. Их
интересуют конкретные люди с индивидуальной судьбой. В связи с этим в
произведениях сентиментализма часто выступают реально существовавшие лица,
иногда даже с сохранением их имени. Это не лишает сентиментальных героев
типичности, поскольку их черты мыслятся как характерные для той среды, к
которой они принадлежат. Герои в произведениях сентиментализма четко делятся
на положительных и отрицательных. Первые наделены природной
чувствительностью. Они отзывчивы, добры, сострадательны, способны к
самопожертвованию, к высокой, бескорыстной любви. Вторые - расчетливы,
эгоистичны, высокомерны, педантичны, жестоки. Носителями чувствительности,
как правило, оказываются представители демократических слоев общества:
крестьяне, ремесленники, разночинцы, сельское духовенство. Жестокосердием
наделяются представители власти, дворяне, высшие духовные чины.
Открытие сентименталистами нового вида мироощущения было ступенью в
поступательном движении литературного процесса. Вместе с тем его проявление
часто приобретало в произведениях сентименталистов слишком внешний и даже
гиперболизированный характер, выражалось в восклицаниях, слезах, обмороках,
самоубийствах. Для сентиментализма характерны, как правило, прозаические
жанры: повесть, роман (чаще всего эпистолярный) , дневник, «путешествие», т.
е. путевые записки, помогающие раскрыть внутренний мир героев и самого
В России сентиментализм зарождается в 60е годы, но лучшие его произведения -
«Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Письма русского
путешественника» и повести Карамзина - относятся к последнему десятилетию
XVIII в. Как и в других литературных направлениях, общность творческого
метода писателей не означает тождества их политических и социальных взглядов,
В русском сентиментализме можно выделить два течения: демократическое,
представленное творчеством А. Н. Радищева и близких к нему писателей - Н. С.
Смирнова и И. И. Мартынова, и более обширное по своему составу - дворянское,
видными деятелями которого были М. М. Херасков, М. Н. Муравьев, И. И.
Дмитриев, Н. М. Карамзин, П. Ю. Львов, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, П. И.
В отличие от западноевропейского сентиментализма, где основной общественный
конфликт был представлен взаимоотношениями между третьим сословием и
аристократией, в русском сентиментализме героями-антагонистами стали
крепостной крестьянин и помещик-крепостник. Представители демократического
течения, сочувствуя крепостным крестьянам, настойчиво подчеркивают их
нравственное превосходство над крепостниками. В их произведениях
чувствительности крестьян противопоставлено душевное огрубение, жестокость
помещиков. Сентименталисты-демократы не идеализируют жизнь крестьян, не
боятся показать ее антиэстетические подробности: грязь, нищету.
Чувствительность героев представлена здесь наиболее широко и разнообразно -
от умиления и радости до гнева и возмущения. Одним из ее проявлений может
быть суровое возмездие своим обидчикам.
Дворянские сентименталисты также говорят о моральном превосходстве крестьян
над помещиками, но факты насилия, бессердечия и произвола крепостников
представлены в их произведениях в виде исключения, как своего рода
заблуждение обидчика, ж чаще всего завершаются его чистосердечным раскаянием.
С большим удовольствием пишут они о добрых, гуманных помещиках, о
гармонических отношениях между ними и крестьянами. Дворянские сентименталисты
последовательно обходят грубые черты крестьянского быта. Отсюда известный
налет пасторальности на изображаемых ими деревенских сценах. Гамма
чувствительности героев здесь гораздо беднее, чем в демократическом
сентиментализме. Сельские жители, как правило, добры, любвеобильны, смиренны
и послушны. И все же было бы неправильно называть дворянский сентиментализм
реакционным явлением. Главная его цель - восстановить в глазах общества
попранное человеческое достоинство крепостного крестьянина, раскрыть его
духовное богатство, изобразить семейные и гражданские добродетели. И хотя
писатели этого течения не отважились поставить вопрос об отмене крепостного
права, но их деятельность подготавливала общественное мнение к разрешению
Непознанное

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома
Домашний очаг

Разбираемся, что входит в техническое обслуживание многоквартирного дома
Государство