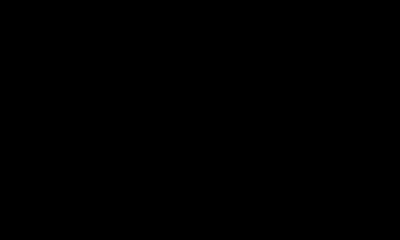В данном материале мы расскажем, что такое отрочество, детство, юность. Кратко рассмотрим каждый период человеческой жизни, укажем общепринятые возрастные разграничения.
Детство
Ах, детство… Пора светлая и прекрасная, когда растёт маленький человечек. Шаг за шагом знакомится он с окружающим его миром. Это такой период, когда у малыша начинают формироваться навыки: он учится говорить, ходить, читать, считать, самостоятельно одеваться. В это время также малыш начинает узнавать, изучать и усваивать те культурные навыки, которые присущи обществу, в котором он существует. В разные эпохи развития человечества, у разных народов период детства подразумевал неодинаковое социальное, а главное, культурное содержание. С течением самой истории меняется понимание детства. В качестве примера можно привести такую пословицу, которую часто в древней Руси применяли к данному этапу: «С рождения и до пяти лет относись к ребёнку как к царю-батюшке, с семи лет и до двенадцати - как к слуге, а после двенадцати - как к равному». В настоящее время к наукам, которые изучают период детства, можно отнести педагогику, психологию, социологию, историю, этнографию, каждая из которых по-своему рассматривает этот возрастной период.

Отрочество
Следующий этап, который следует за детством, - отрочество. Ребёнок растет, развивается, обучается и начитает учиться общению. Условно можно разделить этот этап на два отрезка: начальная школа, когда ведущим видом деятельности является обучение, и средняя школа - здесь главенствующим является уже общение. Отрочества возраст в разный исторический период менялся, сейчас этот период определяется с семи до пятнадцати лет жизни ребёнка. Этот этап жизни ребёнка еще называют подростковым периодом. Что такое отрочество? Это ещё и тот период развития, когда человек становится половозрелым. Раздражимость и повышенная чувствительность, легкая возбудимость и беспокойство, агрессивная тактика самозащиты и меланхолическая пассивность, - все эти крайности именно в таком сочетании характерны для данного периода жизни. Так устроено современное общество, что каждый подросток стремится как можно быстрее обрести статус взрослого человека. Но увы, такая мечта малодоступна. Как говорится, год за годом своим ходом. Поэтому, как часто и бывает, подросток в этот этап своей жизни приобретает не чувство взрослости, а чувство неполноценности.

Что такое отрочество? Этот период характерен влиянием знаковых систем: подросток становится потребителем. Потребление является смыслом его жизни. Для поддержания своего чувства личности и приобретения значимости в кругу сверстников подросток становится обладателем определенного набора вещей.
Юность
После отрочества приходит пора юности. Главной и самой важной особенностью этого периода является переход к самостоятельной взрослой жизни. Наступает так называемый этап зрелости. К концу юношеского периода, примерно к двадцати двум годам, завершается процесс созревания человеческого организма: рост, половое созревание, формирование костно-мышечной системы. Черты лица приобретают определенность. В этот период степень личностной зрелости значительно уступает зрелости организма. Профессиональное самоопределение именно на этом этапе является ведущим критерием. Этот момент является значительным шагом к самостоятельности. Многие виды психических функций, таких как внимание, сенсомоторные реакции, некоторые виды памяти, достигают максимального развития. Умение вести самостоятельный образ жизни, которое в этот период требует от юношей и девушек ответственного поведения и инициативы, является главным признаком социальной адаптации и в целом показывает позитивный ход развития личности молодого человека. Личные привязанности ставятся в приоритет перед коллективными отношениями.
Итак, детство, отрочество, юность -важнейшие годы формирования личности человека.
Годы взросления
Все три этапа можно разбить на следующие примерные временные рамки:
- Детство, которое охватывает годы жизни ребёнка с момента рождения и примерно до семилетнего возраста.
- Отрочеству отводятся годы с семи лет и до четырнадцати.
- С четырнадцати и до двадцати двух - двадцати трёх лет время принадлежит этапу юности.

Описанные возрастные рамки не являются строго определенными, для каждой культуры и страны они могут быть немного сдвинуты. Но в целом картина возрастного разграничения выглядит именно таким образом, и она на текущий момент является устоявшейся.
Вместо заключения
Итак, в статье мы рассмотрели, что такое отрочество, юность и детство. Каждый из этих этапов жизни важен исходя из того, какое влияние он может оказывать на становление личности человека в целом, определение его профессионального пути развития, усвоение им общечеловеческих ценностей, формирование нравственного сознания и выбора гражданской позиции.
Удивительно умел писать Лев Толстой. «Детство, отрочество, юность» - роман автобиографический.
Причем авторская идея произведения подчеркнуто творческая: следовать не хронологии, а первичным этапам становления личности. Классик не просто вдается в воспоминания, но старается на примере главного героя показать основное в жизни каждого ребенка, подростка, юноши. Примечательно, что он своей книгой обращается именно ко всем родителям - не упустить эти принципиальные моменты в воспитании их детей. И это писателю удается.
Книга воспоминаний о детских и юношеских впечатлениях
Структурно книгу составляют три повести, наименование которых упоминается в названии романа. Действие произведения охватывает шесть лет взросления главного героя Николеньки Иртеньева. Повествование осуществляется им же, однако уже во взрослом возрасте. Поэтому в нем органично смотрится недетская глубина мысли.
«Детство» Льва Толстого рассказывает о жизни Николеньки в семейном имении Иртеньевых. С первых ее страниц читателя обезоруживает детская непосредственность мальчика. Классик правдиво и мастерски показывает, как в душе его героя происходит борьба самых противоречивых чувств. Композиция книги имеет свои особенности.
Принципиально автор не пересказывает (как это заведено в сочинениях для детей) хронологию пребывания Николеньки Иртеньева в родительском имении. Более тонкому авторскому стилю следует "Детство" Льва Толстого. В повести рассказывается лишь о тех эпизодах, которые наиболее повлияли на формирование чувств и сознания мальчика.
Роман о важности доброты в воспитании
Книга проникновенно показывает, как важно, чтобы в маленького, взрослеющего человечка была воспитателями изначально заложена доброта. Именно она, доминируя в добром ребенке, в дальнейшем хранит его, помогает при различных испытаниях не ожесточиться, не стать равнодушным.

"Детство" Льва Толстого показывает читателю, что в этом отношении Николеньке исключительно повезло. Ведь некоторая холодность родителей компенсировалась влиянием замечательных воспитателей. Немец-гувернант Карл Иванович, волей судьбы лишенный родины и семьи, любил его, как собственного сына. Да и не он один благоволил к маленькому Иртеньеву. Наталья Саввишна, милая светлая русская женщина, работающая дворовой прислугой, привила ему понимание важности доброты в характере человека.
По логике классика, доброта ребенка непосредственно влияет на развитие в нем творческого начала. К такому выводу подводит читателя "Детство" Льва Толстого. Краткое содержание самой повести можно свести к нескольким характерным эпизодам, отражающим формирование личности Николеньки.
Характерные эпизоды из "Детства"
В самом начале книги (этот момент важен психологически) маленького Иртеньева, уснувшего на уроке, будит гувернер Карл Иванович, ударив мухобойкой муху, сидящую над его головой. Мальчик вначале по-детски разозлился на своего учителя. Тот, одетый в халат с колпаком, в этот момент показался ему противным. Суть этого эпизода заключается в скорой смене всплеска негатива Николеньки на умиротворение. Ведь он в действительности очень любил Карла Ивановича и был благодарен ему за тепло, которое ему уделял пожилой немец.
Сознание ребенка претерпевает противоборство двух начал: творческого и рассудочного. Это важно упомянуть, пересказывая "Детство" Льва Толстого. Краткое содержание соответствующего довольно напряженного эпизода внешне выглядит достаточно мирно. Мысли и чувства бурлят внутри ребенка. Николенька рисует сцены охоты, на которую его взял с собой отец.
У него оказалась лишь синяя краска. И он решает создать свой синий мир. Николенька нарисовал сперва мальчика на лошади, рядом с ним - охотничьих собак, зайца. Но потом что-то не заладилось. Возникла навязчивая мысль, что такого не бывает. Мальчик разнервничался. Он на месте зайца изобразил куст, затем облако, а потом порвал свой рисунок. Милая непосредственность Николеньки. Видно, что в нем настолько сильна фантазия, что она превышает рационализм. По всей видимости, такое же творческое начало бурлило в детские годы и в самом авторе.
"Детство" Льва Толстого содержит еще один характерный эпизод. Автор нас подводит к мысли, что настоящий человек живой (но не “человек в футляре”) должен в детстве играть, ибо само детство - это одна большая и увлекательная игра. Так люди формируются. Игра в детском возрасте - это очень важно. Ведь именно в ней воспитывается непосредственность, коллективизм. Соответствующий эпизод показывает, как Николенька с другими детьми, пребывая в полном восторге, уселся на землю, изображая гребцов. Показательно, что его старший на пару лет брат Володя, назвав игру “ерундой”, остался стоять в стороне. Разве такая холодная рассудочность предполагает доброту? Неудивительно, что двух этих близких по крови людей - братьев - не связывает крепкая дружба. Действительно, разве могут ужиться лед и пламень, порыв души и предварительный расчет?
"Детство" - ключевая часть романа?
О важности связи ребенка с семьей и всем миром, устанавливаемой через любовь, пишет Лев Толстой ("Детство"). Краткое содержание произведения отображает эти глубинные, генные отношения Николеньки с семьей. Неслучайно завершает повесть внезапный крутой поворот судьбы мальчика, трагическое событие - умирает мама.

Характерно, что дальнейшее развитие сюжета в двух последующих повестях лишь продолжает логическую цепочку, начинающуюся с этапа детства. Не мудрствуя лукаво, заявим, что именно повесть "Детство" - ключевая часть всего романа. Нельзя понять его суть, прочитав лишь две его последующие части - "Отрочество" и "Юность". А все потому, что и отрочество, и юность Николеньки выступают своеобразными экзаменами для доброты и сердечности, заложенных в его личность с самого детства.
"Отрочество" и "Юность": как взрослеть, оставаясь самим собой?
Последовательно показывает нам этапы взросления мужчины Лев Толстой. Детство, отрочество, юность. Как и всех ребят, не обходит Николеньку желание походить на взрослых. Он опасается проявлять столь естественную для своих лет сердечность, считая, что другие подростки воспримут это как "ребячество". Повзрослевший главный герой, от лица которого написана повесть, выражает сожаление о том, что на этом этапе лишал себя "чистых наслаждений нежной детской привязанности".
Иртеньевы уезжают в дом к бабушке, московской барыне. Вскоре случается происшествие, вызвавшее стресс и даже потерю сознания Николеньки. Бабушка, не разобравшись, уволила любимого Николенькой Карла Ивановича, взяв на его место гувернера-француза. Психика подростка не выдержала, он пребывал в стрессовом состоянии: получил "двойку" по истории, нечаянно сломал ключ от папиного тайника. А когда новый гувернер Сен-Жером пожурил его, мальчик пошел на конфликт с ним: показал язык, а затем даже ударил. После наказания (Николеньку закрыли в чулане) у него случились конвульсии, закончившиеся обмороком. Впрочем, домашние его простили, мир снова воцарился в его сердце.

Повесть демонстрирует, что подросток Николенька сохранил детскую искренность и доброту. Ведь именно он, наблюдательный, упросил отца выдать замуж с приданным прислуживающую горничную Машу, влюбленную в портного Василия.
“Юность” знакомит нас с Иртеньевым - студентом университета. Студенческая жизнь уводит его от идеалов детства. Николенька дезориентирован. Форма превалирует над содержанием. Он поверхностен в общении с людьми, слепо пытается следовать законам моды, считает принципиальным прогуливать лекции, грубить, вести праздную жизнь. Расплата наступает в виде провала на экзаменах.
Иртеньев осознает, за что поплатился, и твердо принимает решение для себя на всю последующую жизнь - совершенствоваться нравственно.
Вместо заключения
Роман Л.Н.Толстого "Детство, отрочество, юность" стоит того, чтобы его читали и перечитывали. Кажущаяся легкость слога и увлекательность повествования замечательного рассказчика скрывают глубокую мысль.

Внимательно прочитавшие книгу улавливают ее суть: они начинают понимать, как с детских лет формируется личность доброго и порядочного человека и какие вызовы ему предстоит преодолевать в юности.
Детство
«Детство. Отрочество. Юность» – 1
Лев Николаевич Толстой
Детство
Глава I.
УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ
12 августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра – Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из‑под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.
«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володи ной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»
В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
– Auf, Kinder, auf!.. s"ist Zeit. Die Mutter ust schon im Saal , – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nun, nun, Faulenzer! – говорил он.
Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.
«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать!»
Мне было досадно и на самого себя и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.
– Ach, lassen sie , Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из‑под подушек.
Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон, – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.
Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь. Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:
– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.
Я совсем развеселился.
– Sind sie bald fertig? – послышался из классной голос Карла Иваныча.
Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.
Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная . На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages» , в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.
В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой‑то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.
Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из‑под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно‑величавым выражением читает какую‑нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким‑то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.
Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один‑одинешенек, и никто‑то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю, – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.
На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подкленные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная , употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.
Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из‑под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из‑за которой кое‑где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью‑нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, Бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.
Трилогия Л.Н. Толстого — удивительное произведение. Здесь взрослый мудрый человек писал о своем детстве, поэтому часто мысли главного героя нехарактерны для ребенка. Здесь мы слышим голос самого автора.
Эту трилогию очень тщательно продумывал. Ему было важно высказать свои мысли о русской жизни, о русском обществе, о литературе. Поэтому в этих произведениях все очень важно, нет ничего ненужного — Толстой продумал каждую деталь, каждую сцену, каждое слово. Его задача — показать развитие личности человека, становление его характера, убеждений. Мы видим главного героя, Николеньку Иртеньева, в разные периоды его жизни. Это детство, отрочество и юность. Толстой выбрал эти периоды потому, что они самые важные в жизни человека. В детстве ребенок осознает свою связь с семьей и миром, он очень искренен и наивен; в отрочестве мир расширяется, происходят новые знакомства, человек учится взаимодействовать с другими людьми; в юности происходит осознание себя уникальной личностью, выделение из окружающего мира. Все эти этапы проходит и Николенька.
Место действия писатель построил так, чтобы оно совпадало с его основной идеей. Действие первой книги происходит в усадьбе Иртеньевых — родном доме мальчика; во второй книге герой посещает много других мест; наконец, в третьей книге на первый план выходят взаимоотношения героя с внешним миром. И здесь очень важна тема семьи.
Тема семьи — это ведущая тема трилогии. Именно связь с семьей, с домом сильно влияет на главного героя. Толстой намеренно показывает в каждой части какое-нибудь печальное событие в семье Иртеньевых: в первой части умирает мать Николеньки, и это разрушает гармонию; во второй части умирает бабушка, которая была для Николеньки опорой; в третьей части появляется мачеха, новая жена отца. Так постепенно, но неминуемо Николенька входит в мир взрослых отношений. Мне кажется, что он ожесточается.
Рассказ в трилогии идет от первого лица. Но это пишет не сам Николенька, а уже взрослый Николай Иртеньев, который вспоминает свое детство. Во времена Толстого все воспоминания писались от первого лица. К тому же рассказ от первого лица сближает автора и героя, поэтому трилогию можно назвать автобиографической. Во многом в этой книге Толстой пишет о себе самом, о взрослении своей души. После выхода всей трилогии писатель признавался, что он отошел от своего начального замысла.
В трилогии перед нами проходят шесть лет из жизни Иртеньева, но они не описаны день за днем. Толстой показывает самые важные моменты судьбы мальчика. Каждая глава несет какую-то идею. Они следуют друг за другом так, чтобы передать развитие героя, его эмоции и чувства. Толстой так подбирает обстоятельства, чтобы они показывали характер героя ярко и сильно. Так, Николенька оказывается перед лицом смерти, и тут уж условности не имеют значения.
Толстой характеризует своих героев через описание внешности, манер, поведения, потому что так проявляется внутренний мир героев. Даже иностранный язык служит для характеристики героя: аристократы говорят на французском, учитель Карл Иванович говорит на ломаном русском и немецком, простые люди разговаривают на русском.
Все это позволило Л.H. Толстому осуществить анализ психологии ребенка и подростка. В трилогии постоянно сопоставляются внутренний мир человека и внешняя среда. Толстой блестяще раскрывает перед нами душу своего героя. Многие мысли Николеньки схожи с мыслями сегодняшних ребят. Я считаю, что эта трилогия может помочь им разобраться в себе.
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Детство
Глава I
Учитель Карл Иваныч
12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.
«Положим, – думал я, – я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, – прошептал я, – как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает… противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка – какие противные!»
В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Иваныча, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.
– Auf, Kinder, auf!.. s’ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal ! – крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. – Nu, nun, Faulenzer! – говорил он.
Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.
«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!»
Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Иваныча, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.
– Ach, lassen Sie , Карл Иваныч! – закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.
Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины.
Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай – маленький, чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нес наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:
– Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.
Я совсем развеселился.
– Sind Sie bald fertig? – послышался из классной голос Карла Иваныча.
Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, еще с щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.
Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своем обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна – наша, детская, другая – Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги – учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Histoire des voyages» , в красных переплетах, чинно упирались в стену; а потом и пошли, длинные, толстые, большие и маленькие книги, – корочки без книг и книги без корочек; все туда же, бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иваныч эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту – без переплета, один том истории Семилетней войны – в пергаменте, прожженном с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иваныч бо́ льшую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.
В числе предметов, лежавших на полочке Карла Иваныча, был один, который больше всего мне его напоминает. Это – кружок из кардона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иваныч очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.
Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.
Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь – Карл Иваныч сидит себе один на своем кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.
Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он – один-одинешенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал ее Николаю – ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Lieber Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.
На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна – изрезанная, наша, другая – новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания; с другой – черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками – маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.
Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иваныч: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, – а каково мне?» – и начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю – право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Иваныча, – а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.
В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашеных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой – стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдет в грусть, и, бог знает отчего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иваныч сердится за ошибки.
Карл Иваныч снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз – здороваться с матушкой.
Глава II
Maman
Матушка сидела в гостиной и разливала чай; одной рукой она придерживала чайник, другою – кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли.
Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такою, какою она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал; но общее выражение ускользает от меня.
Налево от дивана стоял старый английский рояль; перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Clementi. Ей было одиннадцать лет; она ходила в коротеньком холстинковом платьице, в беленьких, обшитых кружевом панталончиках и октавы могла брать только arpeggio . Подле нее вполуоборот сидела Марья Ивановна в чепце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иваныч. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать: «Un, deux, trois, un, deux, trois» , – еще громче и повелительнее, чем прежде.
Карл Иваныч, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению, с немецким приветствием, подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Иванычу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку.
– Ich danke, lieber Карл Иваныч, – и, продолжая говорить по-немецки, она спросила: – Хорошо ли спали дети?
Карл Иваныч был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал:
– Вы меня извините, Наталья Николаевна?
Карл Иваныч, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз входя в гостиную, спрашивал на это позволения.
– Наденьте, Карл Иваныч… Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети? – сказала maman, подвинувшись к нему и довольно громко.
Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался.
– Постойте на минутку, Мими, – сказала maman Марье Ивановне с улыбкой, – ничего не слышно.
Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.
Поздоровавшись со мною, maman взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала:
– Ты плакал сегодня?
Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила:
– О чем ты плакал?
Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве.
– Это я во сне плакал, maman, – сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли.
Карл Иваныч подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, – разговор, в котором приняла участие и Мими, – maman положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна.
– Ну, ступайте теперь к папа́ , дети, да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно.
Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет.
Глава III
Папа
Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами.
Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались; но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова; лицо же его всегда было спокойно – выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть: я прав, а впрочем, воля ваша!
Увидев нас, папа только сказал:
– Погодите, сейчас.
И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее.
– Ах, боже мой милостивый! что с тобой нынче, Яков? – продолжал он к приказчику, подергивая плечом (у него была эта привычка). – Этот конверт со вложением восьмисот рублей…
Яков подвинул счеты, кинул восемьсот и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше.
– …для расходов по экономии в моем отсутствии. Понимаешь? За мельницу ты должен получить тысячу рублей… так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно восемь тысяч; за сено, которого, по твоему же расчету, можно продать семь тысяч пудов, – кладу по сорок пять копеек, – ты получишь три тысячи: следовательно, всех денег у тебя будет сколько? Двенадцать тысяч… так или нет?
– Так точно-с, – сказал Яков.
Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить; папа перебил его:
– Ну, из этих-то денег ты и пошлешь десять тысяч в Совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе, – продолжал папа (Яков смешал прежние двенадцать тысяч и кинул двадцать одну тысячу), – ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. (Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги двадцать одна тысяча пропадут так же.) Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу.
Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано: «Карлу Ивановичу Мауеру».
Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, на всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече.
– Слушаю-с, – сказал Яков. – А какое приказание будет насчет хабаровских денег?
Хабаровка была деревня maman.
– Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания.
Яков помолчал несколько секунд; потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить:
– Позвольте вам доложить, Петр Александрыч, что как вам будет угодно, а в Совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, – продолжал он с расстановкой, – что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и с сена… (Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости.) Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах, – прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на папа.
– Отчего?
– А вот изволите видеть: насчет мельницы, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить и Христом Богом божился, что денег у него нет… да он и теперь здесь: так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?
– Что же он говорит? – спросил папа, делая головою знак, что не хочет говорить с мельником.
– Да известно что, говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, судырь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели и скоро их получить не придется. Я намедни посылал в город к Ивану Афанасьичу воз муки и записку об этом деле: так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александрыча, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена изволили говорить, положим, что и продастся на три тысячи…
Он кинул на счеты три тысячи и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза папа, с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало! Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать, вы сами изволите знать…»
Видно было, что у него еще большой запас доводов; должно быть, поэтому папа перебил его.
– Я распоряжений своих не переменю, – сказал он, – но если в получении этих денег действительно будет задержка, то, нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет.
– Слушаю-с.
По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие.
Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек; он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское (село, в котором мы жили). В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом.
Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться.
– Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою, – сказал он. – Вы будете жить у бабушки, a maman с девочками остается здесь. И вы это знайте, что одно для нее будет утешение – слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны.
Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушки.
«Так вот что предвещал мне мой сон! – подумал я, – дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже».
Мне очень, очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня.
«Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет; это славно! – думал я. – Однако жалко Карла Иваныча. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта… Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Иваныча. Он и так очень несчастлив!»