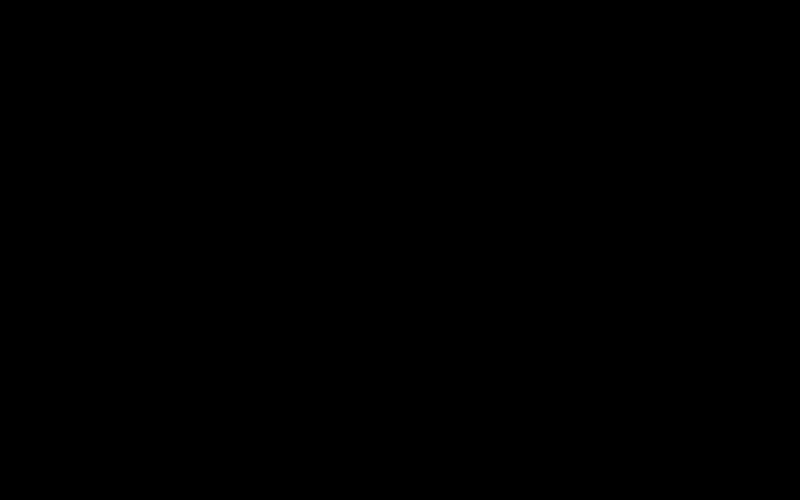О ней не пишут книги. Ее не упоминают в учебниках литературы. Даже специалисты в области словесности вряд ли вспомнят хотя бы пару ее стихов.
Ее ценили Блок и Маяковский, Вячеслав Иванов и Хлебников. Она была одной из первых авангардных художниц России. Она печатала свои стихи на обойной бумаге.
Нетерпеливо-ясная. Елена Гуро.
С середины 19 века в Петербурге существовало «Общество пособия нуждающимся литераторам и ученым». Общество это занималось очень странными делами: выплачивало пенсии писателям, которые в силу старости не могли прокормить себя сами, издавало книги, спонсировало путешествия, необходимые «для самоусовершенствования или для довершения предпринятого ими (писателями) труда». Помимо прочего, Обществу принадлежал дом номер 10 на Песочной улице (сейчас улица Профессора Попова), в котором за минимальную плату, а чаще всего бесплатно, литераторам и ученым предоставлялись жилые помещения.
В этом доме формировалась позиция кубо-футуристов, в этом доме молодые поэты задумали издать сборник «Садок судей», по словам Николая Гумилева, «напечатанный на оборотной стороне обойной бумаги, без буквы «ять», без твердых знаков и еще с какими-то фокусами».
В сборнике были стихи Хлебникова:
Какая-то птица, шагая по небу ногами могильного холма
С восьмиконечными крестами,
Раскрыла далекий клюв
И половинками его замкнула свет,
И в свете том яснеют толпы мертвецов,
В союз спешащие вступить с вещами
Давида Бурлюка:
Ниц мертвый лежал неподвижно
Стеклянные были глаза
Из бойни безжалостно ближней
Кот лужу кровавый лизал
И Елена Гуро:
А еще был фонарь в переулке-
Нежданно-ясный,
Неуместно чистый как Рождественская
Звезда!
И никто, никто прохожий не заметил
нестерпимо наивную улыбку Фонаря.
Она выделялась среди остальных футуристов, робкая, нежная, трогательная, абсолютно далекая от того, чтобы разрушать старый мир, да и строить новый тоже. Как скажет о ней позже Бенедикт Лившиц, «ее излучавшая на все окружающее умиротворенная прозрачность человека, уже сведшего счеты с жизнью, была безмолвным вызовом мне, усматривавшему личную обиду в существовании запредельного мира».
А мир Гуро был запредельным. И со смертью она была связана неразрывно. Многие стихи посвящены «памяти единственного и незабвенного сына».
Он о чем-то далеком измаялся…
Сосны, сосны!
Сосны над тихой и кроткой дюной
Ждут его…
Не ждите, не надо: он лежит спокойно -
Это ничего.
Спит с хорошим, чистым лбом,
Немного смешной, теперь стройный -
И не надо жалеть о нем.
У нее никогда не было детей… Но, наверное, это не важно. Этот миф о нерожденном или умершем в младенчестве ребенке (ее версии на этот счет менялись) стал основным мотивом ее книги «Осенний сон», которая очень хорошо была воспринята критикой.
Вячеслав Иванов написал восторженную рецензию. Блок неоднократно звал Гуро принять участие в сборниках и поэтических вечерах символистов. Собственно, у нее были шансы заявить о себе в этой уже достаточно успешной тусовке.
Но она искала чего-то нового, и нашла, примкнув к «будетлянам» (ей всегда был ближе этот, хлебниковский термин, чем «футурист» Бурлюка).
Она стала частью нового андеграундного движения. Готовилась иллюстрировать книги Крученых, печаталась в совместных сборниках, подписалась под манифестом ко второму «Садку судей»:
Во имя свободы личного случая мы отрицаем правописание», «Мы расшатали синтаксис», «Мы считаем слово творцом мифа, слово, умирая, рождает миф и наоборот», «Нами уничтожены знаки препинания».
Хотя, что она там расшатывала и уничтожала?.. Для Гуро поэтическое слово было средством вызвать ощущение неназванного образа, находящегося за текстом. Впрочем, скорее всего, в создании манифеста она участия не принимала. На встречу на Песочной, которая была назначена для составления манифеста, не смогли придти Давид Бурлюк и Маяковский, так что Гуро, Лившиц и Николай Бурлюк лишь набросали какие-то тезисы, а Давид уже все потом доводил до ума. Собственно, для этого он и был нужен кубо-футуристам. Не для стихов же?
Во втором «Садке судей» отличие Гуро от остальных будетлян стало еще разительнее. Здесь уже появился Крученых:
Дверь
свежие маки
расцелую
пышет
закат
мальчик
собачка
поэт
младенчество лет
Маяковский:
и взвизг сирен забыл у входов
недоуменье фонарей
в ушах оглохших пароходов
горели серьги якорей
И Елена Гуро:
Прости, что я пою о тебе береговая сторона
Ты такая гордая.
Прости что страдаю за тебя -
Когда люди, не замечающие твоей красоты,
Надругаются над тобою и рубят твой лес.
Она всегда держалась особняком, но всегда была с ними. Хлебников в своих письмах восхищался ее «безыскусности и простоте в творчестве». Крученых обращался с просьбой иллюстрировать его книгу «Старинная любовь»: «У Вас в рисунках столько природной нежности, что грех, убийство не украсить ими книги о любви, и это надо настойчиво заявлять, не считаясь ни с публикой, ни с реализмом».
Муж Елены Гуро, художник и издатель Михаил Матюшин, писал в предисловии к сборнику «Трое» (Гуро, Хлебников, Крученых): «Душа ее была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым и так прозрачна, что с легкостью проходила через самые уплотненные явления мира, самые грубые наросты установленного, со своей тихой свечечкой большого грядущего света. Ее саму, может быть, мало стесняли старые формы, но в молодом напоре «новых» она сразу узнала свое – и не ошиблась. И если для многих связь ее с ними была каким-то печальным недоразумением, то только потому, что они не поняли ни ее, ни их».
Но она никогда не выступала на вечерах будетлян, хотя однажды дала свои стихи для публичного чтения на одном из диспутов, по ее мнению эти стихи характеризовали всю творческую работу группы и были идеальным завершением вечера. Впрочем, Николай Бурлюк забыл их прочесть. А она все принимала близко к сердцу: «Я получила «пощечину» от своих». Объясняться после диспута к Бурлюкам поехал Матюшин. Гуро их больше не увидела. Через месяц она умерла от лейкемии в Финляндии, в Усикирико, в возрасте 36 лет.
Некролог, опубликованный через пять дней после ее смерти назывался «Недооцененная»: «Скончалась она в одинокой бревенчатой финской даче на высотах, покрытых елями и соснами. Гроб ее на простых финских дорогах, украшенных белым полотном и хвоей, по лесистым холмам и пригоркам провожала маленькая группа близких и ценивших. Могила под деревьями на высоком холме простого и сурового финского кладбища с видом на озеро, оцепленное лесом».
Это ли? Нет ли?
Хвои шуят, шуят,
Анна - Мария, Лиза - нет?
Это ли? - Озеро ли?
Она умерла до того как футуризм стал мейнстримом. Еще до «Первого вечера речетворцев», до «Победы над солнцем», до того, как восторженные барышни и возмущенные юноши стали расхватывать билеты на поэтические вечера футуристов в течение нескольких часов после начала продаж. Возможно поэтому, сейчас о ней известно не так много, как о Хлебникове, Крученых, Маяковском.
При ее жизни не было продано ни одного экземпляра «Шарманки», когда магазины вернули книги нераспакованными, она рассылала их по библиотекам санаториев, объясняя это желанием «хоть отчасти отвлечь через идеи творчества» от «трудного и тяжелого пути страдания и болезни». Самой известной ее книгой стал посмертный сборник «Небесные верблюжата». Он заканчивается такими словами:
Поклянитесь, далекие и близкие, пишущие на бумаге чернилами, взором на облаках, краской на холсте, поклянитесь никогда не изменять, не клеветать на раз созданное - прекрасное - лицо вашей мечты, будь то дружба, будь то вера в людей или в песни ваши.
<…>
Обещайте, пожалуйста! Обещайте это жизни, обещайте мне это!
Обещайте!
Подборка стихов
ГОРОД
Пахнет кровью и позором с бойни.
Собака бесхвостая прижала осмеянный зад к столбу
Тюрьмы правильны и спокойны.
Шляпки дамские с цветами в кружевном дымку.
Взоры со струпьями, взоры безнадежные
Умоляют камни, умоляют палача…
Сутолка, трамваи, автомобили
Не дают заглянуть в плачущие глаза
Проходят, проходят серослучайные
Не меняя никогда картонный взор.
И сказало грозное и сказало тайное:
«Чей-то час приблизился и позор»
Красота, красота в вечном трепетании,
Творится любовию и творит из мечты.
Передает в каждом дыхании
Образ поруганной высоты.
Так встречайте каждого поэта глумлением!
Ударьте его бичом!
Чтобы он принял песнь свою, как жертвоприношение,
В царстве вашей власти шел с окровавленным лицом!
Чтобы в час, когда перед лающей улицей
Со щеки его заструилась кровь,
Он понял, что в мир мясников и автоматов
Он пришел исповедовать - любовь!
Чтоб любовь свою, любовь вечную
Продавал, как блудница, под насмешки и плевки, -
А кругом бы хохотали, хохотали в упоении
Облеченные правом убийства добряки!
Чтоб когда, все свершив, уже изнемогая,
Он падал всем на смех на каменья вполпьяна,
В глазах, под шляпой модной смеющихся не моргая,
Отразилась все та же картонная пустота!
Говорил испуганный человек:
«Я остался один, - я жалок!»
…. … …
Но над крышами таял снег,
Кружилися стаи галок.
.. . . . . ..
Раз я сидел один в пустой комнате,
шептал мрачно маятник.
Был я стянут мрачными мыслями,
словно удавленник.
Была уродлива комната
чьей-то близкой разлукой,
в разладе вещи, и на софе
книги с пылью и скукой.
Беспощадный свет лампы лысел по стенам,
сторожила сомкнутая дверь.
Сторожил беспощадный завтрашний день:
«Не уйдешь теперь!..»
И я вдруг подумал: если перевернуть,
вверх ножками стулья и диваны,
кувырнуть часы?..
Пришло б начало новой поры,
Открылись бы страны.
Тут же в комнате прятался конец
клубка вещей,
затертый недобрым вчерашним днем
порядком дней.
Тут же рядом в комнате он был!
Я вдруг поверил! - что так.
И бояться не надо ничего,
но искать надо тайный знак.
И я принял на веру; не боясь
глядел теперь
на замкнутый комнаты квадрат…
На мертвую дверь.
. . . .. ..
Ветер талое, серое небо рвал,
ветер по городу летал;
уничтожал тупики, стены.
Оставался талый с навозом снег
перемены.
.. .. . . ..
Трясся на дрожках человек,
не боялся измены.
ЗВЕНЯТ КУЗНЕЧИКИ
В тонком завершении
и прозрачности полевых метелок - небо.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
Знаю я, отчего сердце кончалося -
А кончина его не страшна -
Отчего печаль перегрустнулась и отошла
И печаль не печаль, - а синий цветок.
Все прощу я и так, не просите!
Приготовьте мне крест - я пойду.
Да нечего мне и прощать вам:
Все, что болит, мое родное,
Все, что болит, на земле, - мое благословенное,
Я приютил в моем сердце все земное,
И ответить хочу за все один.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
И взяли журавлиного,
Длинноногого чудака
И, связав, повели, смеясь:
Ты сам теперь приюти себя!
Я ответить хочу один за все.
Звени, звени, моя осень,
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
Вдруг весеннее (Земля дышала ивами в близкое...)
Земля дышала ивами в близкое небо;
под застенчивый шум капель оттаивала она.
Было, что над ней возвысились,
может быть и обидели ее, -
а она верила в чудеса.
Верила в свое высокое окошко:
маленькое небо меж темных ветвей,
никогда не обманула, - ни в чем не виновна,
и вот она спит и дышит...
Ветрогон, сумасброд, летатель...
Ветрогон, сумасброд, летатель,
создаватель весенних бурь,
мыслей взбудараженных ваятель,
гонящий лазурь!
Слушай, ты, безумный искатель,
мчись, несись,
проносись нескованный
опьянитель бурь.
Вечернее
Покачнулося море -
Лодочка поплыла.
Встрепенулися птички...
Правь к берегу!
Море, море засыпай,
Засыпайте куличики,
В лодку девушка легла
Косы длинней, длинней
Морской травы.
. . . . . . . . . . . . . .
Нет, не заснет мой дурачок!
Я не буду петь о любви.
Как ты баюкала своего?
Старая Озе, научи.
Ветви дремлют...
Таратайка не греми,
Сердце верное - знай -
Ждать длинней морской травы.
Ждать длинней, длинней морской травы,
А верить легко...
Не гляди же, баю-бай,
Сквозь оконное стекло!
Что окошко может знать?
И дорога рассказать?
Пусть говорят - мечты-мечты,
Сердце верное может знать
То, что длинней морской косы.
Спи спокойно,
В море канули часы,
В море лодка уплыла
У сонули рыбака,
Прошумела нам сосна,
Облака тебе легли,
Строются дворцы вдали, вдали!..
Возлюбив боль поругания...
Возлюбив боль поругания,
Встань к позорному столбу.
Пусть не сорвутся рыдания! -
Ты подлежишь суду!
Ты не сумел принять мир без содрогания
В свои беспомощные глаза,
Ты не понял, что достоин изгнания,
Ты не сумел ненавидеть палача!
Но чрез ночь приди в запутанных улицах
Со звездой горящей в груди...
Ты забудь постыдные муки!
Мы все тебя ждем в ночи!
Мы все тебя ждем во тьме томительной,
Ждем тепла твоей любви...
Когда смолкнет день нам бойцов не надо, -
Нам нужен костер в ночи!
А на утро растопчем угли
Догоревшей твоей любви
И тебе с озлобленьем свяжем руки...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Но жди вечерней зари!
Вот и лег утихший, хороший...
Вот и лег утихший, хороший -
Это ничего -
Нежный, смешной, верный, преданный -
Это ничего.
Сосны, сосны над тихой дюной
Чистые, гордые, как его мечта.
Облака да сосны, мечта, облако...
Он немного говорил. Войдет, прислонится.
Не умел сказать, как любил.
Дитя мое, дитя хорошее,
Неумелое, верное дитя!
Я жизни так не любила,
Как любила тебя.
И за ним жизнь, жизнь уходит -
Это ничего.
Он лежит такой хороший -
Это ничего.
Он о чем-то далеком измаялся...
Сосны, сосны!
Сосны над тихой и кроткой дюной
Ждут его..
Не ждите, не надо: он лежит спокойно -
Это ничего.
Выздоровление
Апетит выздоровлянский
Сон, - колодцев бездонных ряд,
и осязать молчание буфета и печки час за часом.
Знаю, отозвали от распада те, кто любят...
Вялые ноги, размягченные локти,
Сумерки длинные, как томление.
Тяжело лежит и плоско тело,
и желание слышать вслух две-три
лишних строчки, - чтоб фантазию зажгли
таким безумным, звучным светом...
Тело вялое в постели непослушно,
Жизни блеск полупонятен мозгу.
И бессменный и зловещий в том же месте
опять стал отблеск фонаря......
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опять в путанице бесконечных сумерек...
Бредовые сумерки,
я боюсь вас.
Вянут настурции на длинных жердинках...
Вянут настурции на длинных жердинках.
Острой гарью пахнут торфяники.
Одиноко скитаются глубокие души.
Лето переспело от жары.
Не трогай меня своим злым током...
Меж шелестами и запахами, переспелого, вянущего лета,
Бродит задумчивый взгляд,
Вопросительный и тихий.
Молодой, вечной молодостью ангелов, и мудрый.
Впитывающий опечаленно предстоящую неволю, тюрьму и чахлость.
Изгнания из стран лета.
Гордо иду я в пути...
Гордо иду я в пути.
Ты веришь в меня?
Мчатся мои корабли
Ты веришь в меня?
Дай Бог для тебя ветер попутный,
Бурей разбиты они -
Ты веришь в меня?
Тонут мои корабли!
Ты веришь в меня!
Дай Бог для тебя ветер попутный!
Город (Пахнет кровью и позором с...)
Пахнет кровью и позором с бойни.
Собака бесхвостая прижала осмеянный зад к столбу
Тюрьмы правильны и спокойны.
Шляпки дамские с цветами в кружевном дымку.
Взоры со струпьями, взоры безнадежные
Умоляют камни, умоляют палача...
Сутолка, трамваи, автомобили
Не дают заглянуть в плачущие глаза
Проходят, проходят серослучайные
Не меняя никогда картонный взор.
И сказало грозное и сказало тайное:
«Чей-то час приблизился и позор»
Красота, красота в вечном трепетании,
Творится любовию и творит из мечты.
Передает в каждом дыхании
Образ поруганной высоты.
Так встречайте каждого поэта глумлением!
Ударьте его бичом!
Чтобы он принял песнь свою, как жертвоприношение,
В царстве вашей власти шел с окровавленным лицом!
Чтобы в час, когда перед лающей улицей
Со щеки его заструилась кровь,
Он понял, что в мир мясников и автоматов
Он пришел исповедовать - любовь!
Чтоб любовь свою, любовь вечную
Продавал, как блудница, под насмешки и плевки, -
А кругом бы хохотали, хохотали в упоении
Облеченные правом убийства добряки!
Чтоб когда, все свершив, уже изнемогая,
Он падал всем на смех на каменья вполпьяна, -
В глазах, под шляпой модной смеющихся не моргая,
Отразилась все та же картонная пустота!
Готическая миниатюра
В пирном сводчатом зале,
в креслах резьбы искусной
сидит фон Фогельвейде:
певец, поистине избранный.
В руках золотая арфа,
на ней зелёные птички,
на платье его тёмносинем
золоченые пчелки.
И, цвет христианских держав,
кругом благородные рыцари,
и подобно весенне-белым
цветам красоты нежнейшей,
замирая, внимают дамы,
сжав лилейно-тонкие руки.
Он проводит по чутким струнам:
понеслись белые кони.
Он проводит по светлым струнам:
расцвели красные розы.
Он проводит по робким струнам:
улыбнулись южные жёны.
Ручейки в горах зажурчали,
рога в лесах затрубили,
на яблоне разветвлённой
качаются птички.
Он запел, -- и средь ночи синей
родилось весеннее утро.
И в ключе, в замковом колодце,
воды струя замолчала;
и в волненьи черезвычайном
побледнели, как месяц, дамы,
на мечи склонились бароны...
И в высокие окна смотрят,
лучами тонкими, звезды.
Детская шарманочка
С ледяных сосулек искорки,
И снежинок пыль...
А шарманочка играет
Веселенькую кадриль.
Ах, ее ободочки
Обтерлись немножко!
Соберемся все под елочкой:
Краток ночи срок;
Коломбина, Арлекин и обезьянка
Прыгают через шнурок.
Высоко блестят звезды
Золотой бумаги
И дерутся два паяца,
Скрестив шпаги.
Арлекин поет песенку:
Далеко, далеко за морем
Круглым и голубым
Рдеют апельсины
Под месяцем золотым.
Грецкие орехи
Серебряные висят;
Совушки фонарики
На ветвях сидят.
И танцует кадриль котенок
В дырявом чулке,
А пушистая обезьянка
Качается в гамаке.
И глядят синие звезды
На счастливые мандарины
И смеются блесткам золотым
Под бряцанье мандолины.
Днём
Прядки на березе разовьются, вьются,
сочной свежестью смеются.
Прядки освещенные монетками трепещут;
а в тени шевелятся темные созданья:
это тени чертят на листве узоры.
Притаятся, выглянут лица их,
спрячутся как в норы.
Размахнулся нос у важной дамы;
превратилась в лошадь боевую
темногриво-зеленую...
И сейчас же стала пьяной харей.
Расширялась, расширялась,
и венком образовалась;
и в листочки потекли
неба светлые озера,
неба светлые кружки:
озеро в венке качается...
Эта скука никогда,
как и ветер, не кончается.
Вьются, льются,
льются, нагибаются,
разовьются, небом наливаются.
В летней тающей тени
я слежу виденья,
их зеленые кивки,
маски и движенья,
лёжа в счастьи солнечной поры.
Звездочка
Звездочка
Она блестит, она глядит, она манит,
Над грозным лесом
Она взошла.
Черный грозный лес,
Лес стоит.
Говорит: - в мой темный знак,
Мой темный знак не вступай!
От меня возврата нет -
За звездой гнался чудак
Где нагнать ее
Не отгадал...
Не нагнал -
И счастлив был, -
За нее пропал!
Звенят кузнечики
В тонком завершении и
прозрачности полевых
метелок - небо.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
Знаю я отчего сердце кончалося -
А кончина его не страшна -
Отчего печаль перегрустнулась и отошла
И печаль не печаль, - а синий цветок.
Все прощу я и так, не просите!
Приготовьте мне крест - я пойду.
Да нечего мне и прощать вам:
Все, что болит, мое родное,
Все, что болит, на земле, - мое
благословенное;
Я приютил в моем сердце все земное,
И ответить хочу за все один.
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
И взяли журавлиного,
Длинноногого чудака,
И связав, повели, смеясь:
Ты сам теперь приюти себя!
Я ответить хочу один за все.
Звени, звени, моя осень,
Звени, звени, моя осень,
Звени, мое солнце.
Из сладостных
Венок весенних роз
Лежит на розовом озере.
Венок прозрачных гор
За озером.
Шлейфом задели фиалки
Белоснежность жемчужная
Лилового бархата на лугу
Зелени майской.
О мой достославный рыцарь!
Надеюсь, победой иль кровью
Почтите имя дамы!
С коня вороного спрыгнул,
Склонился, пока повяжет
Нежный узор «Эдита»
Бисером или шелком.
Следы пыльной подошвы
На конце покрывала.
Колючей шпорой ей
Разорвало платье.
Господин супруг Ваш едет,
Я вижу реют перья под шлемом
И лают псы на сворах.
Прощайте дама!
В час турнира сверкают ложи.
Лес копий истомленный,
Точно лес мачт победных.
Штандарты пляшут в лазури
Пестрой улыбкой.
Все глаза устремились вперед
Чья-то рука в волнении
Машет платочком.
Помчались единороги в попонах большеглазых,
Опущены забрала, лязгнули копья с визгом,
С арены пылью красной закрылись ложи.
Из средневековья
В небе колючие звезды,
в скале огонек часовни.
Молится Вольфрам
у гроба Елизаветы:
«Благоуханная,
ты у престола Марии -- Иисуса,
ты умоли за них Матерь Святую,
Елизавета!»
Пляшут осенние листья,
при звездах корчатся тени.
Как пропал рыцарь Генрих,
расходилися темные силы,
души Сарацинов неверных:
скалы грызут зубами,
скрежещут и воют.
«Ангелом белым Пречистая Лилия,
ты, безгрешная Жертва Вечерняя,
Роза Эдемская,
Елизавета!»
Корчатся тени,
некрещеные души,
клубами свиваются, взвыв.
«Смилуйся, смилуйся, Матерь Пречистая,
«Божия Матерь.
«Молит за нас тебя ангел твой белый,
«наша заступница
«Елизавета!
«Сгинь, власть темная
«от гроба непорочного.
«Свечи четыре --
«Пречистый Крест
«и лилии -- лилии,
«молитвы христианские!»
....................
Огоньки в болоте мелькают
в ядовитой притихшей тине.
Под часовней карлики злые
трясут бородами...
И пляшут колючие звезды,
дрожит огонек лампадки...
Невредимы в ночи осенней
весенние цветочки
у непорочного гроба.
Июнь - вечер
Как высоко крестили дальние полосы, вершины -
Вы царственные.
Расскажи, о чем ты так измаялся
Вечер, вечер ясный!
Улетели в верх черные вершины -
Измолились высоты в мечтах,
Изошли небеса, небеса...
О чем ты, ты изомлел-измаялся
Вечер - вечер ясный?
Моему брату
Помолись за меня - ты
Тебе открыто небо.
Ты любил маленьких птичек
И умер замученный людьми.
Помолись обо мне тебе позволено
чтоб-б меня простили.
Ты в своей жизни не виновен в том -
в чем виновна я.
Ты можешь спасти меня.
помолись обо мне
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
оттого, что я печалюсь.
Также я думаю о тех,
кто на свете в чудаках,
кто за это в обиде у людей,
позасунуты в уголках - озябшие без ласки,
плетут неумелую жизнь, будто бредут
длинной дорогой без тепла.
Загляделись в чужие цветники,
где насажены
розовенькие и лиловенькие цветы
для своих, для домашних.
А все же их хоть дорога ведет -
идут, куда глаза глядят,
я - же и этого не смогла.
Я смертной чертой окружена.
И не знаю, кто меня обвел.
Я только слабею и зябну здесь.
Как рано мне приходится не спать,
оттого, что я печалюсь.
Немец
Сев на чистый пенек,
Он на флейте пел.
От смолы уберечься сумел.
Я принес тебе душу, о, дикий край,
О, дикий край.
Еще последний цветочек цвел.
И сочной была трава,
А смола натекала на нежный ком земли.
Вечерело. Лягушки квакали
Из лужи вблизи.
Еще весенний цветочек цвел.
Эдуард Иваныч!
Управляющий не шел.
Немца искали в усадьбе батраки.
Лидочка бежала на новый балкон
И мама звала: «Где ж он?»
Уж вечереет, надо поспеть
Овчарню, постройки осмотреть.
«Да где ж он пропал?!»
Мамин хвостик стружки зацеплял.
Лидочка с Машей, столкнувшись в дверях,
Смеялись над мамой -- страх!
А в косом луче огневились стружки
И куст ольхи.
Вечерело, лягушки квакали
вдали, вдали.
Эдуард Иваныч!
Немчура не шел.
Весенний цветочек цвел.
Но в утро осеннее, час покорно-бледный...
Но в утро осеннее, час покорно-бледный,
Пусть узнают, жизнь кому,
Как жил на свете рыцарь бедный
И ясным утром отошел ко сну.
Убаюкался в час осенний,
Спит с хорошим, чистым лбом
Немного смешной, теперь стройный -
И не надо жалеть о нем.
Нора, моя...
Строгая злая Королева распускает вороньи
волосы и поет:
Ты мне зеркальце скажи
Да всю правду доложи
Кто меня здесь милее
Нора, моя Белоснежка,
Нора, мой снежный цветик,
Мой облачный барашек.
Ох ты, снежная королева,
Облачное руно,
Нежное перышко,
Ты, горный эдельвейс,
Нора, моя мерцающая волна,
Нора, мой сладко мерцающий сон!
Ах, строгая Королева, не казни меня,
Не присуждай меня к смерти!
Мое снежное облако,
Моя снежная сказка,
Эдельвейс с горы,
Много милее тебя!
Он доверчив, ...
Он доверчив, -
Башни его далеко.
Башни его высоки.
Озера его кротки.
Лоб его чистый -
На нем весна.
Сорвалась с ветви птичка -
И пусть несется,
Моли, моли, -
Вознеслась и - лети!
Были высоки и упали уступчиво
И не жаль печали, - покорна небесная.
Приласкай, приласкай покорную
Овечку печали - ивушку,
Маленькую зарю над черноводьем.
Ты тянешь его прямую любовь,
Его простодушную любовь, как ниточку,
А что уходит в глубину?
Верность
И его башни уходят в глубину озер.
Не так ли? Полюби же его.
Песни города
Было утро, из-за каменных стен
гаммы каплями падали в дождливый туман.
Тяжелые, петербургские, темнели растения
с улицы за пыльным стеклом.
Думай о звездах, думай!
И не бойся безумья лучистых ламп,
мечтай о лихорадке глаз и мозга,
о нервных пальцах музыканта перед концертом;
верь в одинокие окошки,
освещенные над городом ночью,
в их призванье...
В бденья, встревоженные электрической искрой!
Думай о возможности близкой явленья,
о лихорадке сцены.
Зажигаться стали фонари,
освещаться столовые в квартирах...
Я шептал человеку в длинных космах;
он прижался к окну, замирая,
и лихорадок начатых когда-то ночью.
И когда домой он возвращался бледный,
пробродив свой день, полуумный,
уж по городу трепетно театрами пахло --
торопились кареты с фонарями;
и во всех домах многоэтажных,
на горящих квадратах окон,
шли вечерние представленья:
корчились дьявольские листья,
кивали фантастические пальмы,
таинственные карикатуры --
волновались китайские тени.
Поклянитесь однажды, здесь мечтатели...
Поклянитесь однажды, здесь мечтатели,
глядя на взлет,
глядя на взлет высоких елей,
на полет полет далеких кораблей,
глядя как хотят в небе островерхие,
никому не вверяя гордой чистоты,
поклянитесь мечте и вечной верности
гордое рыцарство безумия,
и быть верными своей юности
и обету высоты.
Полевунчики
Полевые мои Полевунчики,
Что притихли? Или невесело?
Нет, притихли мы весело --
Слушаем жаворонка.
Полевые Полевунчики,
Скоро ли хлебам колоситься?
Рано захотела -- еще не невестились.
Полевые Полевунчики,
что вы пальцами мой след трогаете?
Мы следки твои бережем, бережем,
а затем, что знаем мы заветное,
знаем, когда ржи колоситься.
Полевые Полевунчики,
Что вы стали голубчиками?
Мы не сами стали голубчиками,
а знать тебе скоро матерью быть --
То-то тебе свет приголубился.
Пролегала дорога в стороне...
Пролегала дорога в стороне,
Не было в ней пути.
А была она за то очень красива!
Да, именно за то...
Приласкалась к земле эта дорога,
Так прильнула, что душу взяла.
Полюбили мы эту дорогу
На ней поросла трава.
Доля, доля, доляночка!
Доля ты тихая, тихая моя.
Что мне в тебе, что тебе во мне?
А ты меня замучила!
Скука
В черноте горячей листвы
бумажные шкалики.
В шарманке вертятся, гудят,
ревут валики.
Ярким огнем
горит рампа.
Над забытым столиком,
фонарь или лампа.
Pierette шевелит
свой веер черный.
Конфетти шуршит
в аллейке сорной.
Ах, маэстро паяц,
Вы безумны -- фатально.
Отчего на меня,
на -- меня?
Вы смотрите идеально?..
Отчего Вы теперь опять
покраснели,
что-то хотели сказать,
и не сумели?
Или Вам за меня,
за -- меня? -- Обидно?
Или, просто, Вам,
со мною стыдно?
Но глядит он мимо нее:
он влюблен в фонарик...
в куст бузины,
горящий шарик.
Слышит -- кто-то бежит,
слышит -- топот ножек:
марьонетки пляшут в жару
танец сороконожек.
С фонарем венчается там
черная ночь лета.
Взвилась, свистя и сопя,
красная ракета.
Ах, фонарик оранжевый, -- приди! --
Плачет глупый Пьерро.
В разноцветных зайчиках горит
А тёплыми словами потому касаюсь жизни, что как же иначе касаться раненого? Мне кажется, всем существам так холодно, так холодно…
Елена Гуро. Из книги Небесные верблюжата, 1914
Отец Гуро был высокопоставленным военным, секретарём штаба Петербургского ВО и войск гвардии при в. кн. Владимире Александровиче, генерал-лейтенантом; дед по матери — педагог и детский литератор Чистяков; сестра Елены, Екатерина Низен, участвовала в публикациях футуристов.
В 1909 Елена Гуро издала первую книгу рассказов, стихов и пьес «Шарманка»; тираж при её жизни остался нераспроданным, и оставшиеся экземпляры поступили повторно в продажу после её смерти. К книге Гуро сочувственно отнеслись Вячеслав Иванов, Лев Шестов, Алексей Ремизов и Александр Блок, с которым Гуро была знакома лично (Гуро иллюстрировала его стихи в альманахе «Прибой») и который проявлял к её творчеству и личности постоянный интерес.
В истории русского авангарда нет другого такого художника, для которого литература, п оэзия и живопись были бы так неотторжимо слиты, как это было у Елене Гуро. О не й нельзя говорить только как о художнике или как о поэте, авторе дневников или же катализаторе художественных идей. Она не создала системы или школы, не попала в силки какой-либо, пусть собственной, художественной платформы, но взгляды и личность Гуро оказывали влияние на художников и поэтов, окружавших ее, и во многом определяли концепции по крайней мере двух художественных группировок - "Союза молодежи" и "Гилей".
Полевые мои Полевунчики, Что притихли? Или невесело? — Нет, притихли мы весело - Слушаем жаворонка. Полевые Полевунчики, Скоро ли хлебам колоситься? — Рано захотела — еще не невестились. Полевые Полевунчики, что вы пальцами мой след трогаете? — Мы следки твои бережем, бережем, а затем, что знаем мы заветное, знаем, когда ржи колоситься. Полевые Полевунчики, Что вы стали голубчиками? — Мы не сами стали голубчиками, а знать тебе скоро матерью быть - То-то тебе свет приголубился.Тринадцати лет Гуро поступила в Рисовальную школу при ОПХ в Петербурге. В 1903-05 годах посещала студию художника импрессионистического толка Ционглинского. Там она познакомилась с талантливым музыкантом и живописцем, а впоследствии и теоретиком искусства Матюшиным, ставшим ее другом и единомышленником. В 1906-07 они вместе посещают художественную школу Званцевой (располагавшуюся в том же петербургском доме, что и знаменитая "башня" поэта Вячеслава Иванова), где преподавали такие мастера модерна, как Добужинский и Бакст.

|
«Портрет М. В. Матюшина», 1903.
Истоки творчества Гуро можно найти и в символизме Борисова-Мусатова и Врубеля, которых она глубоко почитала. Стоит выделить несколько периодов в творчестве художницы, определяемых направлениями ее исканий: до 1906 - ученичество, впитывание и переосмысление импрессионизма, "мирискуснической" стилистики (оформление совместно с Любавиной книги "Шарманка"); 1906-07 - символические стилизации ("Рост и движерезультат или делание
Елена Гуро возвела этюдность, незавершенность, фрагментарность в ранг самостоятельных качеств, присущих творческому акту, а значит, и плоду его - произведению. Она делала сначала этюд общей формы, например дерева или кошки, часто сразу кистью, одновременно следя за изменчивостью натуры во времени и стилизуя ее, то есть приближаясь к сути объекта. Затем изображала часть объекта: ствол дерева или голову кошки, стараясь не потерять характерности целого. И наконец, фрагмент - кора дерева, лапа кошки, - в котором, как в семени, сохранялось все дерево или животное
В 1908—1910 Гуро и Матюшин входят в круг русских кубофутуристов-«будетлян» (Давид Бурлюк, Василий Каменский, Велимир Хлебников), они встречаются в доме Матюшиных на Песочной улице в Петербурге (ныне Музей петербургского авангарда на улице Профессора Попова, Петроградская сторона), там основывается издательство «Журавль», в 1910 выходит первый сборник кубофутуристов «Садок судей», где участвует и Гуро. В 1910—1913 она активно выступает и как художник, на выставках левого «Союза молодёжи».
Елена Гуро справа
В 1912 Елена Гуро выпускает второй сборник «Осенний сон» (положительная рецензия Вячеслава Иванова), включающий одноименную пьесу, ряд фрагментов и иллюстрации автора. Наиболее известная её книга, состоящая в основном из стихотворений, но включающая дневниковые фрагменты — «Небесные верблюжата» (1914) — вышла посмертно. Творчество Гуро вызывало сочувственный отклик самых разных критиков, в том числе отрицательно настроенных к футуризму (так, Владислав Ходасевич противопоставлял её остальным футуристам).
 Елена Гуро умерла на своей финляндской даче от лейкемии, похоронена там же; могила не сохранилась. Её памяти футуристы посвятили сборник «Трое» (1913; в книгу вошли стихи Хлебникова и Алексея Кручёных, а также посмертные публикации самой Гуро). Среди молодых петроградских поэтов в 1910-е поддерживался культ Гуро, существовало посвященное ей издательство «Дом на Песочной» (продолжавшее «Журавль»).
Елена Гуро умерла на своей финляндской даче от лейкемии, похоронена там же; могила не сохранилась. Её памяти футуристы посвятили сборник «Трое» (1913; в книгу вошли стихи Хлебникова и Алексея Кручёных, а также посмертные публикации самой Гуро). Среди молодых петроградских поэтов в 1910-е поддерживался культ Гуро, существовало посвященное ей издательство «Дом на Песочной» (продолжавшее «Журавль»).
Опять в путанице бесконечных сумерек
Бредовые сумерки,
я боюсь вас.
Елена Гуро. 1913.
Венок весенних роз
Лежит на розовом озере.
Венок прозрачных гор
За озером.
Шлейфом задели фиалки
Белоснежность жемчужная
Лилового бархата на лугу
Зелени майской.
Для творчества Гуро характерен синкретизм живописи, поэзии и прозы, импрессионистическое восприятие жизни, поэтика лаконического лирического фрагмента (влияние Ремизова, «симфоний» Андрея Белого, «стихотворений в прозе» Бодлера и связанной с ним традиции), свободный стих, эксперименты с заумью («Финляндия»). Излюбленные тематики: материнство (в ряде стихотворений отражена тоска по умершему сыну «Вильгельму Нотенбергу», которого на самом деле не было), распространяющееся на весь мир, пантеистическое ощущение природы, проклятие городу, в некоторых стихотворениях социальные мотивы.
Вдруг весеннее
Земля дышала ивами в близкое небо;
под застенчивый шум капель оттаивала она.
Было, что над ней возвысились,
может быть, и обидели ее, -
а она верила в чудеса.
Верила в свое высокое окошко:
маленькое небо меж темных ветвей,
никогда не обманула, — ни в чем не виновна,
и вот она спит и дышит...
и тепло.
Поэзия Гуро связана с Финляндией, в которой она подолгу жила. Одноименное заумное стихотворение построено на фонетической стилизации финской речи. Стихотворение Гуро «Финская мелодия» была посвящено «несравненному сыну его родины», известному финскому певцу того времени Паси Яяскеляйнену. Вторая же часть стихотворения, «Не плачь, мать родная», по-видимому, была навеяна одноимённым стихотворением финского поэта Яакко Ютейни.
Поклянитесь однажды, здесь мечтатели, глядя на взлет, глядя на взлет высоких елей, на полет полет далеких кораблей, глядя как хотят в небе островерхие, никому не вверяя гордой чистоты, поклянитесь мечте и вечной верности гордое рыцарство безумия, и быть верными своей юности и обету высоты. 1913Интерес к Гуро пробудился благодаря работе Владимира Маркова «Русский футуризм» (1968); в 1988 в Стокгольме издан её сборник «Selected prose and poetry», в 1995 году там же — неизданные произведения из архивов, а в 1996 в Беркли, Калифорния — «Сочинения». В России изданы два сборника избранного с одинаковым названием «Небесные верблюжата»: в Ростове-на-Дону в 1993 и в Петербурге в издательстве «Лимбус Пресс» в 2002, кроме того, в Петербурге вышли сборники «Из записных книжек» (1997) и «Жил на свете рыцарь бедный» (1999). Творчеству Гуро посвящено большое количество исследований в России и за рубежом.
people.su ›

|
«Женщина в платке (Скандинавская царевна)», 1910.
Гордо иду я в пути.
Ты веришь в меня?
Мчатся мои корабли
Ты веришь в меня?
Дай Бог для тебя ветер попутный,
Бурей разбиты они -
Ты веришь в меня?
Тонут мои корабли!
Ты веришь в меня!
Дай Бог для тебя ветер попутный!
1913
"Она чувствует себя матерью всех вещей, всех живых существ: и куклы, и Дон-Кихота, и кота. Все её дети изранены, и она тянет к ним свою смелую душу"
Вадим Шершеневич. Поэтессы. 1 914.
"Душа её была слишком нежна, чтобы ломать, слишком велика и благостна, чтобы враждовать даже с прошлым, и так прозрачна, что с лёгкостью проходила через самые уплотнённые явления мира, самые грубые наросты установленного со своей тихой свечечкой большого грядущего света… Вся она, как личность, как художник, как писатель, со своими особыми потусторонними путями и в жизни и в искусстве - необычайное, почти непонятное в условиях современности, явление. Вся она, может быть, знак.
Знак, что приблизилось время"(из предисловия М. Матюшина к сборнику "Трое", 1913).
Сайт, посвящённый творчеству Елены Гуро:
http://elenaguro.narod.ru/index.html
МЕЛОЧИ
ДЕТСКОЕ УТРО
Расцвели под окошком пушистые одуванчики. Раскрылся желтый лютик, и стало утро. Блестящие чашечки унизали лужок. Собрали чашечки лютика и еще синие и сделали чайный столик. Из лучей волчок бегал по полу.
Пошли воевать с темной елкой: отвоевать белую кружечку. В это время дома выросли грибы на полках, деревянные, лакированные и с красными шапочками. Увидав это, желтые соломенные стулья заплясали по комнате.
А мы стали гоняться. Хотели поймать желтый солнечный пушок и посадить его на сосновыю полку. Гонялись, гонялись и не поймали. Так и пробегали по солнечным окнам до завтрака.
А с сосновой полочки смолка веселыми слезками падала.
НЕИЗРЕЧЕННОЕ
Точно маленькая желтая улыбка. Неожиданно утром на дорожке прилип желтый листик. Над дорожкой точно кто-то белокурый приподнял ресницы.
Погоди, это приближенье. На коричневый мох рассыпались желтые треугольнички. Точно кто-то идет в конце дорожки — но его нет. Сверху льются лазоревые стеклышки и светло-зеленые. Встревожился воздух, стал холодноватый.
Точно кто-то встревоженный и просветленный приподнял ресницы. Точно будет приезд. Приедет сюда дивная страна, далекая, с блаженной жизнью. Ее привезут на коляске с кожаным верхом, и чуть-чуть будут по песку пищать колеса. Точно обеими ногами подпрыгнули от земли и поплыли над землей.
Сверху льются лазоревые стеклышки и зеленое серебро. Лучатся спелые соломинки у ступеней.
Прозвенела стеклянная дверь балкона.
Рамы стекольные и жердочки просветлели. Все это не сегодня — а завтра... Погоди!..

ПОДРАЖАНИЕ ФИНЛЯНДСКОМУ
Целый день провалялся я за гумном...
Ничего нет весеннего вереска милее! Мне сказала судьба: «Полежи еще, увалень; ты проспишь свое счастье».
И когда я встал и вышел на дорогу, у меня еще солома сидела в волосах.
Ничего нет весеннего вереска милее! И кричали мне вслед: «Экий неряха идет!» Да, захотел, так и встал.
Высоко растут сосны!
И я рыл целый день, ворочал и гнул, так, что скрипели суставы. И я стрелял судьбу мою в высоте.
Высоко растут сосны.
И я вырыл из глубины лесной мою судьбу и понес на плечах. И я вырыл большое счастье, и было, чем хвастаться:
«Захочу, так и встану я!» Да, совсем еще бурый вереск был.
Ничего нет весеннего вереска краснее! И стояла девушка с белым цветком в руках. И стояла девушка, взявшись за концы платка... И сказал я девушке — будь моей!
Ничего нет весеннего вереска милее! А большое счастье пусть постоит! И уж покраснела она и отвернулась прочь... Но тут меня треснула по шее судьба, так что в канаву ткнулся я головой, — а канава была с весенней водой.
Ничего нет весеннего вереска милее. А когда я вылез, девушки не было, только прятался быстрый смех в кустах. И я нес добытое счастье на плечах, и соседи мне удивлялись и снимали шапки. И ворчала судьба: «Сыночек образумился!» Но я тихомолком от нее соображал: «Ведь она тогда отвернулась, покраснев». Ничего нет весеннего вереска краснее! И я, таки, думал: — Весна придет опять, весна придет опять.
И смех дразнил, исчезал в кустах. «Ничего нет весеннего вереска милее!»
Елена Генриховна Гуро. Биография
Еле́на (Элеоно́ра) Ге́нриховна Гуро́ , в браке Матюшина (18 мая 1877, Санкт-Петербург - 23 апреля 1913, Уусикиркко, Выборгская губерния) - русская поэтесса, прозаик и художница.
Отец Гуро был высокопоставленным военным, секретарём штаба Петербургского ВО и войск гвардии при в. кн. Владимире Александровиче, генерал-лейтенантом; дед по матери - педагог и детский литератор М. Б. Чистяков; сестра Елены, Екатерина Низен, участвовала в публикациях футуристов. Получила художественное образование, занималась живописью в мастерской Я. Ф. Ционглинского, где познакомилась с будущим мужем, музыкантом и художником-авангардистом М. В. Матюшиным, одним из ключевых деятелей русского футуризма. В 1906-1907 брала уроки живописи у Л. С. Бакста и М. В. Добужинского.
В 1909 издала первую книгу рассказов, стихов и пьес «Шарманка»; тираж при жизни Гуро остался нераспроданным, и оставшиеся экземпляры поступили повторно в продажу после её смерти. К книге сочувственно отнеслись Вячеслав Иванов, Лев Шестов, Алексей Ремизов и Александр Блок, с которым Гуро была знакома лично (Гуро иллюстрировала его стихи в альманахе «Прибой») и который проявлял к её творчеству и личности постоянный интерес.
В 1908-1910 Гуро и Матюшин входят в складывающийся круг русских кубофутуристов-«будетлян» (Давид Бурлюк, Василий Каменский, Велимир Хлебников), они встречаются в доме Матюшиных на Песочной улице в Петербурге (ныне Музей петербургского авангарда на улице Профессора Попова, Петроградская сторона), там основывается издательство «Журавль», в 1910 выходит первый сборник кубофутуристов «Садок судей», где участвует и Гуро. В 1910-1913 она активно выступает и как художник, на выставках левого «Союза молодёжи» и т. п.
В 1912 Елена Гуро выпускает второй сборник «Осенний сон» (положительная рецензия Вяч. Иванова), включающий одноименную пьесу, ряд фрагментов и иллюстрации автора. Наиболее известная её книга, состоящая в основном из стихотворений, но включающая дневниковые фрагменты - «Небесные верблюжата» (1914) - вышла посмертно. Творчество Гуро вызывало сочувственный отклик самых разных критиков, в том числе отрицательно настроенных к футуризму (так, Владислав Ходасевич противопоставлял её остальным футуристам).
Елена Гуро умерла на своей финляндской даче от лейкемии, похоронена там же; могила её не сохранилась. Её памяти футуристы посвятили сборник «Трое» (1913; в книгу вошли стихи Хлебникова и Алексея Кручёных, а также посмертные публикации самой Гуро). Среди молодых петроградских поэтов в 1910-е поддерживался культ Гуро, существовало посвященное ей издательство «Дом на Песочной» (продолжавшее «Журавль»).
Для творчества Гуро характерен синкретизм живописи, поэзии и прозы, импрессионистическое восприятие жизни, поэтика лаконического лирического фрагмента (влияние Ремизова, «симфоний» Андрея Белого, «стихотворений в прозе» Бодлера и связанной с ним традиции), свободный стих, эксперименты с заумью («Финляндия»). Излюбленные тематики: материнство (в ряде стихотворений отражена тоска по умершему сыну «Вильгельму Нотенбергу», которого на самом деле не было), распространяющееся на весь мир, пантеистическое ощущение природы, проклятие городу, в некоторых стихотворениях социальные мотивы.
Поэзия Гуро связана с Финляндией, в которой она подолгу жила. Одноименное заумное стихотворение построено на фонетической стилизации финской речи. Стихотворение Гуро «Финская мелодия» была посвящено «несравненному сыну его родины», известному финскому певцу того времени Паси Яяскеляйнену. Вторая же часть стихотворения, «Не плачь, мать родная», по-видимому, была навеяна одноимённым стихотворением финского поэта Яакко Ютейни.
Интерес к Гуро пробудился благодаря работе Владимира Маркова «Русский футуризм» (1968); в 1988 в Стокгольме издан её сборник «Selected prose and poetry», в 1995 году там же - неизданные произведения из архивов, а в 1996 в Беркли, Калифорния - «Сочинения». В России изданы два сборника избранного с одинаковым названием «Небесные верблюжата»: в Ростове-на-Дону в 1993 и в Петербурге в издательстве «Лимбус Пресс» в 2002, кроме того, в Петербурге вышли сборники «Из записных книжек» (1997) и «Жил на свете рыцарь бедный» (1999). Творчеству Гуро посвящено большое количество исследований в России и за рубежом.
Государство

Методическая разработка для воспитателей «Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в воспитательно-образовательном процессе ДОУ»
Семья и Дети

Самые необходимые заговоры на защиту — без них не обойтись Зеркальный щит заговор оберег
Деньги